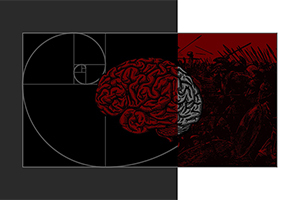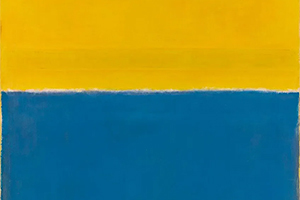Пермский Театр-Театр открывает год громкой премьерой — Филипп Григорьян ставит «Маскарад» Михаила Лермонтова. О том, как устроена одна из главных пьес русской сцены и как с ней работать сегодня, — беседа режиссера с драматургом проекта Ольгой Федяниной.
Ольга Федянина: Два слова о предыстории, о том, как возник «Маскарад», до того как мы начали вообще какой-то разговор о нем. Почему-то я тебе этот вопрос «на берегу» не задавала. Задам теперь. Это ты предлагал театру «Маскарад» или Театр-Театр тебе его предложил?
Филипп Григорьян: Мне бы самому в голову не пришло такую штуку ставить. Театр предложил, Борис Леонидович Мильграм. Я не сразу согласился, ушел, подумал и придумал сначала совсем не то, что в результате получилось. Но в любом случае мне было понятно, что в этом тексте, в этих фигурах есть что-то, что меня задевает. Это живое ощущение, а не просто профессиональный, технический челлендж.
Федянина: С «Маскарадом», как и с «Горем от ума», например, — а ты же «Горе от ума» тоже ставил когда-то в Театре-Театре (ты вообще, кажется, самый пермский из московских режиссеров, да?) — так вот, с этими великими, фундаментальными шедеврами русской сцены такая история, что кроме самого шедевра есть еще огромный шлейф интерпретаций. И ты уже не всегда понимаешь, с чем ты разговариваешь: с самой пьесой или с историей ее постановок. Ты наверняка до этого знал какие-то «Маскарады». Это как-то на тебя влияет?
Григорьян: Действительно заметный «Маскарад», который я видел живьем, был «Маскарад» Римаса Туминаса — не московская версия, а еще тот, привезенный в конце 90-х из Литвы. Имел представление какое-то, очень поверхностное, о том «Маскараде», который Анатолий Васильев поставил в Comédie-Française, — пока сам не посмотрел. Я еще, конечно, видел какие-то постановки. Но они на меня производили сложное впечатление. Кривые они всегда были.
Федянина: В каком смысле?
Григорьян: Они распадались на запчасти, на странные запчасти. И в конце всегда торчал Неизвестный, как айсберг в океане. А он, с одной стороны, всегда существует как бог из машины, но с другой — не по законам бога из машины. Потому что бог из машины не должен быть персонажем.
На всякого Арбенина найдется еще супер-Арбенин.
Федянина: У бога из машины, во всяком случае, не должно быть своих интересов.
Григорьян: Именно. А тут Неизвестный как бы отменял всех. Вообще. Потому что получается пьеса Неизвестного, и она круче, чем пьеса всех здесь присутствующих. Приходит Неизвестный — и трагедия Нины, и эта смерть — они растворяются. Важно становится наказание Арбенина каким-то супер-Арбениным. На всякого Арбенина найдется еще супер-Арбенин.
Федянина: Вообще-то и сама по себе история Арбенина, даже без всякого супер-Арбенина, довольно проблематичная. Потому что Нина в ней ну очень уж заметно незаметная. Повод, так сказать.
Григорьян: Ну, про Нину — отдельный разговор. Но от всего этого всегда остается очень странное впечатление. И от этих двух как бы «несущих», опорных образов — игра и маски. С одной стороны — карточные столы, с другой — маскарад. Весь мир — игра, все люди в масках, и вроде бы эти два образа ты должен решить, когда ставишь «Маскарад». Что это такое, как они между собой соотносятся. И какое бы это ни было решение, в этом всегда много пафоса, и в этих масках, и в этой игре, понимаешь? Я особо не вдумывался, но у меня всегда здесь были вопросы. Потому что, знаешь, вот по радио идет реклама: «Весь мир — театр, все люди в масках, кричал в буфете театра Стас. Потом проснулся на балете, а завтра выпьет “Вятский квас” — и день улыбкой новый встретит…» Ну то есть сегодня цена этой метафоры — она вот такая. Приехали. Это настолько уже все общее место — и про жизнь-игра, и про люди-маски… Невозможно. А эта штука такая, которая поглощает очень много энергии и постановочного бюджета. Мы живем в постпостфрейдовскую, в постюнговскую эпоху, у каждого второго психолог, а то и не один. Да, маски. Маска, а на ней еще одна маска, а на ней еще одна маска. Что столько пафоса-то?
 © Пермский академический Театр-Театр
© Пермский академический Театр-ТеатрФедянина: Ну, тут я даже не столько возражу, сколько немножко в сторону скажу: никакого нового сообщения ни из замаскированности, ни из срывания всех и всяческих масок сегодня больше не сделаешь. Потому что через сто лет после Фрейда люди до такой степени научились раздеваться, что «боже, как их замолчать заставить» — хочется, чтобы кто-нибудь замаскировался наконец, а то все такие стали прозрачные, что смотреть устаешь. То есть и вопрос игры провидения, и вопрос, какой сегодня может быть маскарад, — это просто антропологически уже недосягаемо. Природа человека меняется, нравится нам это или нет.
Сменю тему. Как ты думаешь, Лермонтов, будучи все-таки не драматургом по природе, а поэтом, когда писал драматическое сочинение, имел в виду театр в практическом смысле слова?
Григорьян: Да, конечно, он имел в виду театр и, конечно, хотел, чтобы «Маскарад» был поставлен на сцене. При этом совершенно очевидно, что он очень плохо себе представлял, как театр вообще устроен. Он хотел всеми силами произвести впечатление — это ясно. Впечатление такого акционистского свойства. В пьесе и в самой истории ее создания очень много акционизма. Знаешь, это как рассуждать, хотел ли Владимир Маяковский, чтобы была поставлена трагедия «Владимир Маяковский» на сцене, когда ему был 21 год. Хотел и даже поставил. Разговор же у нас все равно о 20-летнем парне, ты просто представь себе, сколько там R'n'B, сколько у меня телок, сколько у меня тачек, какие у меня красивые золотые зубы с бриллиантами. Да-да, мы все равно говорим про гения, про национальное достояние, но в 20 лет человека прет. Одно другого совершенно не умаляет, но и отделить одно от другого невозможно — и не нужно. Зачем вы идете в артисты? Хотим стать звездами. А огромный талант, гений — это очень помогает. Потому что даже то, что шьется коряво и белыми нитками, все равно затягивает, трогает, потрясает. В «Маскараде», например, Отелло с фамусовской Москвой сшит — и нормально. Лермонтов, в принципе, сделал все правильно: взял на свой вкус все самое лучшее и склеил как мог. Хочу фурор. В театре? Да, конечно. Театр — идеально. Кстати, а выходили тогда на поклон драматурги после премьер или нет — вот, Оля, к тебе вопрос.
Федянина: Я узнаю. (UPD: узнала — выходили обязательно.)
Григорьян: Как он это себе представлял, интересно. Вышел на поклоны в ментике, в лосинах свежепарадных натянутых. И девушки: «Ох, боже мой!», «Михаил Юрьевич, это было гениально, гениально, я рыдала». Это абсолютно акционистская штука.
 © Пермский академический Театр-Театр
© Пермский академический Театр-ТеатрФедянина: Ну хорошо, мы на самом деле не знаем, что он себе представлял. Но автор как персонаж собственного успеха — да, это очень понятный сюжет, он всегда как-то в театре присутствует. Даже если это не Лермонтов, а, скажем, Гете. Но если вернуться к внутренним сюжетам пьесы: когда ты ее начал читать уже театральными, режиссерскими глазами, там что-то было такое, что тебя сильно удивило или чего ты не ожидал?
Григорьян: Вот те белые нитки, про которые я только что сказал. Или, если по-другому, больше всего удивила вот эта вот пигментация чудовищная. Болезнь, знаешь, такая есть — витилиго, у Майкла Джексона была. Тут вот он чернокожий, а тут альбинос. Меня поразило, насколько эта пьеса — Франкенштейн, насколько она сшита из разных кусков. Как с таким Франкенштейном обращаться театру — другая история, но для начала это нужно хотя бы уложить в голове. Тут мне, конечно, история создания сильно помогла. И тот факт, что никакого Неизвестного не было в первой редакции. Если знаешь, что отмщения там изначально не было, а потом оно практически на целый акт растянуто, то уже не так удивляешься той неловкости, которая возникает, когда в последнем акте вдруг радикально меняется жанр. Выясняется, что это была не драма и не трагедия, а какой-то детектив. В конце четвертого акта приходит Пуаро — Неизвестный. И оказывается, что это была Агата Кристи, и Пуаро, представьте себе, тут самый интересный: так страдал, что вам всем не снилось.
Меня поразило, насколько эта пьеса — Франкенштейн, насколько она сшита из разных кусков.
Федянина: Великий лермонтовед Борис Эйхенбаум писал когда-то, что логичнее было бы, если бы театры играли трехактную версию, потому что она-то точно ближе к исходному замыслу автора. Но парадокс в том, что Неизвестный и вся эта история позднего возмездия вроде бы и пришиты белыми нитками, но и совсем без них получается неправильно.
Григорьян: Ну вот я и попробовал читать историю задом наперед, с конца к началу. И тут как-то мне реально посвежело. Как ни странно, когда ты все выворачиваешь наизнанку и видишь, что суть остается прежней, в голове все встает на свои места.
Федянина: Если читать с конца, то Агата Кристи отменяется. В результате у нас теперь развязка стала прологом. Хорошо. Но то, что это не детективная история, мы вроде бы и так догадываемся. Однако это не ответ на вопрос о жанре. В «Маскараде» жанр обозначен как «драма». При этом я по инерции, если меня спросить, скажу, что Арбенин — трагический герой. Герой, находящийся в трагическом конфликте. Но в русском театре с трагедией как с жанром дело обстоит плохо. В том месте, где у англичан «Гамлет», а у французов «Федра», у нас — что? «Борис Годунов», на самом деле, не трагедия. Остальные пьесы Пушкина — они, конечно, трагедии, но «маленькие», а это тоже такое противоречие существенное, неразрешимое. Маленькая трагедия — это оксюморон, на самом деле. Так вот, «Маскарад» — это наш «Гамлет» или нет? И есть ли вообще смысл в этом вопросе?
Григорьян: Для театра это очень серьезный вопрос. Потому что любая драма одним неосторожным движением руки превращается в мелодраму. А трагедия так вообще требует наличия трагического героя, осознающего неизбежность своей жертвы. Я не вижу в «Маскараде» никакого трагического героя. Я даже намека не вижу на трагедию Арбенина. Вижу драму. Для меня Арбенин в этом смысле — иллюзорный персонаж, преувеличенный, искусственно накачанный довольно пафосным воздухом. Жертва своей неспособности выйти из круга привычек и травм. Неспособности сменить траекторию, скажем так. Его слепота — это не роковая слепота Эдипа. Что касается Нины, то она в этом смысле более интересный персонаж, которому автор совершенно ничего не подарил. Никакой разумной, развернутой жизни. Зато подарил пару очень хороших сцен. Вроде он ей не уделил внимания, но при этом дал абсолютно живую фактуру. Там, где появляется Нина, сцены с Арбениным оживают. Они вдруг становятся человеческими. И вот она, как ни странно, к трагическому герою может приблизиться.
 © Пермский академический Театр-Театр
© Пермский академический Театр-ТеатрФедянина: Это сложно, потому что она не действующий персонаж, а чисто страдающий, жертвенный. При этом такое ощущение, что самому-то Лермонтову Нину совершенно не жалко.
Григорьян: Я не могу так однозначно сказать, хотя, если исходить из того, как мало он ей дал возможности высказаться, Нина, конечно, очень сильно опредмечена, она чуть-чуть вещь. Но даже сам этот монолог про женщину как вещь отдан не ей, а баронессе Штраль. То есть и всю рефлексию получила тоже не Нина.
Федянина: Баронесса Штраль вообще гораздо сильнее во всех отношениях «загружена». У нее такое количество интриги, ответственности, вины. Все на ней. В каком-то смысле есть ощущение, что мужские персонажи — это какие-то отдельные фигуры, а женские — это одна большая женщина, поделенная на несколько ипостасей.
Григорьян: На две, по сути. В принципе, так и есть. Знаешь, когда разговариваешь с какими-нибудь дядьками, которые много раз были женаты, так, «по-мужски» разговариваешь, то они тебе могут сказать, что под конец жизни все их женщины сливаются в одну большую женщину. Это, я подозреваю, не то чтобы какая-то чисто мужская оптика, у женщин все ровно так же. И не имеет значения, какая это оптика — мужская или женская, определенно она бесчеловечна.
Федянина: «Оптика» — модное слово, я его не очень люблю, но иногда неизбежное. Если уж мы заговорили об отдельных персонажах, давай вернемся к главному. Ты говоришь, Арбенин — не трагическая фигура, фигура преувеличенная. А кем, собственно, он преувеличен? Театральной традицией? Самим Лермонтовым?
Григорьян: Лермонтовым, конечно! В этом же и есть весь фокус. Театр в данном случае — причем прямо вместе с публикой, театр вообще — он просто образец классического стокгольмского синдрома. Вас берут в заложники. Вот этот вот Михаил Юрьевич Лермонтов и берет при помощи всей своей поэтической гениальности. Он тратит десятки страниц на то, чтобы рассказать и показать, какой это страшный человек — Арбенин, но как он при этом страдает, какой он глубокий, сколько у него внутри всего интересного происходит. Тебе все время рассказывают, какой он интересный. Нельзя не начать сочувствовать: какой бы он ни был злодей, он все время в кадре со своими монологами, мыслями, переживаниями. И когда ты приходишь в театр, то театр тебе показывает историю, которая вся выстроена вокруг переживаний и мыслей этого человека. Тебе автор практически не оставил выбора.
 © Пермский академический Театр-Театр
© Пермский академический Театр-ТеатрФедянина: Хорошо, мы живем в XXI веке, мы уже не обязаны верить автору безоговорочно. Куда нас ведет это недоверие?
Григорьян: В первую очередь — к вопросу о природе такого взгляда. Это, собственно, если помнишь, было то, с чего мы когда-то начинали разговор о пьесе. О том, что Арбенин — это представление 20-летнего Лермонтова о «взрослом». Так в его воображении выглядит взрослый мужчина, у которого «все было» — страсти, пропасти, опыт. Эта призрачная мужская брутальность, мощь, глубина переживаний, разочарованность, неумолимость.
Федянина: Так видит его Лермонтов.
Григорьян: Да. И за всем этим слышится страшное подростковое отчаяние, такая необходимость внимания, дружбы, чего-то, чего у него, судя по всему, не было. Все эти «я не Бог — и не прощаю» — это все звучит очень сильно как «спасите-помогите», если вслушаться.
Но я не могу смотреть на мир глазами 20-летнего парня XIX века. Зачем мне это делать? Смысл-то именно в том, что я могу смотреть и на этот сюжет, и на эти фигуры, и на этого автора своими собственными глазами. И если это гениальное произведение, если там какая-то правда написана, то оно от перемены оптики не должно разрушаться. Если это какая-то целая вещь. И вот ты начинаешь так работать, и оказывается, что она достаточно целая, несмотря на всю свою кривоту, с которой мы начали.
Федянина: Насчет «целая» — это интересно. С одной стороны, ты прав, когда ты говоришь, что это Франкенштейн, а с другой — ощущение такое, что Франкенштейн совершенно неубиваемый. Оптика оптикой, но этот фирменный поезд под названием «Маскарад» едет по расписанию. Я за время работы больше десятка «Маскарадов» подряд посмотрела, некоторые из них совсем плохие, некоторые прекрасные, но во всех есть какие-то опорные точки, которые, как я подозреваю, у Мейерхольда в 1917 году в Александринке и у Житинкина в 2014 году в Малом театре выглядят одинаково. Вот Арбенин обнял жену, поцеловал, на одну руку посмотрел, на другую посмотрел, задумался, спросил: «Где браслет?» — и история развернулась в этом месте. И ни в каком другом она развернуться не может. От этого такое ощущение устойчивости?
Григорьян: Эта сцена делится ровно пополам — до того, как он увидел ее руку, и после того, как увидел. До того как он увидел, что у нее нет браслета, эта какая-то совершенно потрясающая суперсовременная пара со сложными, красивыми отношениями, очень интимно прописанными. Почти Достоевский — ну или новая драма. Мы видим какую-то редчайшую для той эпохи в пьесе интимность, абсолютно прорывную степень интимности. Фантастическая пара, два человека, которые так сложны, сложно соединены друг с другом. И вдруг он ее абсолютно от себя отрезает. Это так просто — все делится на до и после. Это, собственно, и есть убийство. Ему не нужно ничего, никаких доказательств, ничего. Ему достаточно его собственных сомнений.
Федянина: Звучит очень романтично.
Лермонтов, конечно, абсолютно персонаж аниме — но с очень родной нашей спецификой, исторической и психологической.
Григорьян: Это вообще совершенно не романтично. Истории про домашнее насилие — разве они романтичные? Но мы в них видим всегда точно такой же концептуальный поворот, щелчок: она приходит домой и видит, что муж просто превратился в демона. Не в «Демона», а вот в это неуправляемое и неконтактное существо, недоступное никакому голосу извне. В профессора Соколова.
Федянина: Как-то ты Арбенина сейчас совсем опустил. Не жалко тебе его.
Григорьян: Не жалко. Арбенин — преступник просто по роду деятельности. Профессиональный преступник совершенно не в высоком, шиллеровском смысле. Арбенин не становится преступником тогда, когда убивает Нину, — он им был изначально. Другое дело, что это такое преступление с подмигиванием. То есть все в этом лермонтовском мире (и реальном, и литературном) знают, что карточные игры, азартные, запрещены. Но это нормальный способ подзаработать: обобрать в карты другого человека. Именно обобрать. Мы говорим о профессиональной деятельности, потому что обобрать можно только командой, бандой, где есть один, которого обдирают, и остальные, которые на этом наживаются. То есть Арбенин — шулер. Когда Казарин приходит к Арбенину, чтобы он ему помог, то это о чем речь? О том, что молодежь ничего не понимает: не понимает, когда нужно обыгрывать, когда нужно не обыгрывать. А вот некоторые сейчас играют и богатые — и таких чинов достигли. Это о чем речь? Мы какого-то молодого глупого барина, приехавшего из деревни сено продавать и заработать деньжат, обыграем, а какому-нибудь высокопоставленному чиновнику из министерства, которое нам нужно, наоборот, поможем выиграть. Казарин Арбенина зовет обратно в банду.
Федянина: Но в фантазии Лермонтова он не преступник — ну или не просто преступник.
Григорьян: Ты знаешь, вот Лермонтова со всей его фантазией как раз жалко до слез. Ощущение, что человек в безвоздушном пространстве жил. Я уж не знаю, что там за великая русская духовность у нас была в XIX веке, но ощущение такое, что у этого человека никого рядом нет. Ни одного, условно говоря, духовно авторитетного человека, никакого старца Зосимы. И это мир, в котором нет ни совести, ни справедливости. Не существует.
Федянина: А ты не думаешь, что это просто мир подростка-нонконформиста? Это же не свойство первой половины XIX века. Мы же потом с этими подростками в XX веке, во всей послевоенной литературе будем иметь дело. С этими полумальчиками, которые оказываются в вакууме. И уже сегодня все эти потерянные принцы между реальностью и виртуальностью — все это продолжается.
Григорьян: Безусловно, в каком-то смысле так оно и есть. Лермонтов, конечно, абсолютно персонаж аниме, но с очень родной нашей спецификой, исторической и психологической. Вопрос в том, как с этим обращаться, — мы можем только стараться посмотреть сегодняшними глазами в эту сторону, попробовать, что получится, если мы с автором и с его персонажами так будем обращаться на сцене.
Материал, любезно предоставленный в распоряжение редакции Театром-Театром, подготовлен для буклета спектакля «Маскарад».
Понравился материал? Помоги сайту!
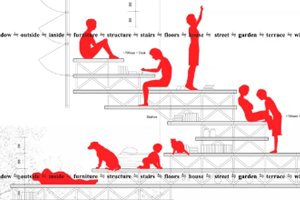 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали