 Современная музыка
Современная музыкаЧто слушать в ноябре
Новый альбом «ДДТ», возвращения Oxxxymiron и Ёлки, композиторский джаз Игоря Яковенко и другие примечательные альбомы месяца
18 ноября 2021183 © Григорий Собченко/Коммерсантъ
© Григорий Собченко/КоммерсантъУшел Боря Дубин. Невозможно с этим смириться; прежде всего потому, что он был прекрасным другом, уникальным человеком «без изъянов», абсолютно надежным, стопроцентно неконъюнктурным, скромным, чутким и открытым. Но потеря его невосполнима и для российской культуры. Сейчас мне кажется, что с уходом Бори кончился целый этап нашей культуры, измеряемой диапазоном открытости. Она как будто схлопнулась, сузилась, стала коридором в коммуналке. Это схлопывание ощущалось для меня вехами утрат — Пригов, Витя Живов, Гриша Дашевский и вот последний — Боря.
Я познакомился с ним на первых Тыняновских чтениях в 1982 году. Мариэтта Чудакова, организовавшая это филологическое собрание, привезла с собой двух молодых социологов, с которыми работала в Ленинке, — Леву Гудкова и Борю Дубина. Филологи встретили их не особенно дружелюбно. В ту пору в моде были поиски скрытых цитат и комментарии. Социология литературы многим казалась пустой профанацией, слишком общим был уровень анализа, пренебрегавшего тонкостями текстов и контекстов. Сама же проблема отношений литературы с читателем и социумом мало кого волновала. Боря, прекрасный тонкий социолог, замечательно знавший мировую философскую мысль, имел и еще одну ипостась — он был талантливым поэтом и переводчиком поэзии. Сейчас мне кажется, что между его социологией культуры и его переводами существует гораздо более значимая связь, чем я раньше полагал.
Боря никогда не мыслил перевод как работу над изолированным текстом. Стихотворение всегда было для него манифестацией языка (а он знал множество языков и никогда не работал с подстрочника), а язык всегда казался ему воплощением культуры. Стихотворение вписывалось в целостное творчество поэта, который представлялся носителем особой конфигурации национального языка. Поэтому перевод всегда означал схватывание общей пластики и интонации этой поэтико-культурной и языковой тотальности. Боря восхищался своим учителем Анатолием Гелескулом и повторял, что Гелескул не просто перевел тексты Лорки, но придумал всего Лорку, создал слиянный языковый континент, культурную общность, только исходя из которой, можно переводить тексты. В этом смысле Борина переводческая практика опиралась на глубокое герменевтическое понимание соотношения текста и культуры как взаимосвязи целого и части. И именно в этом смысле общесоциологический подход к культуре дополнял его работу переводчика. Но для того, чтобы так работать, нужно было досконально знать «среду», порождавшую тексты. И в этом знании Боре не было равных. Разговор с ним был удивителен потому, что позволял обсуждать культуру как сложное и неповторимое напластование слоев.
Сделанные им переводы открыли неведомые в России зоны мировой культуры. Чего стоит только его переводческий подвиг — многолетняя работа над Борхесом. Но работа переводчика — это не только открытие неизвестных и общепризнанных гигантов. Боря считал, что освоение относительно маргинальных культур — галицийской, португальской или польской — принципиально для развития российской словесности, которая слишком давно и уютно вписана в континенты французского, английского или немецкого языкового строя. Его эрудиция была огромна и ненавязчива, но особое качество ему придавала именно эта способность мыслить глобально, при этом не абстрактно и спекулятивно, а именно на уровне тончайшей поэтической интуиции. В этом смысле мне всегда казалось, что Боря — автор прекрасной литературной критики и тонких филологических анализов — в чем-то «антифилолог». Контексты и цитаты его совершенно не занимали. Он один из немногих умел мыслить культуру глобально, как меняющуюся форму сознания, находящего выход в отдельных текстах, как динамическую конфигурацию скрытых языковых пластов. Российская поэзия в его сознании всегда была частью мировой.
Именно поэтому его смерть — трагедия для всей отечественной словесности, погрязшей в провинциальности, невежестве, антиинтеллектуализме и чувстве национальной самодостаточности. Охватывает ужас от сознания того, что Борю абсолютно некем заменить. Что-то безвозвратно кончилось, ушло, иссякло.
Уход Бориса Дубина – потеря катастрофическая. Масштаб этой потери осознается многими – так что, надеюсь, в ближайшие дни о Дубине будет сказано много, причем с разных наблюдательных позиций. Я хотел бы отметить только три вещи.
Дубин принадлежал к крохотному числу людей, выполняющих в нашей стране редкую и вместе с тем чрезвычайно важную для России культурную функцию «человека-института». Это человек, деятельность которого разворачивается по столь разным направлениям, что современники говорят: «Казалось, это было несколько людей, носивших одну и ту же фамилию». Другая сторона этого редчайшего культурного типа – невероятная работоспособность и продуктивность; современники говорят: «Казалось, он один заменяет собой работу целого института». Таким был Михаил Леонович Гаспаров. Борис Дубин был фигурой из этого же ряда – хотя он яростно воспротивился бы всякой попытке поставить себя рядом с Гаспаровым. Но факт есть факт: это была одна и та же культурная роль – если угодно, «культурная вакансия». Целый ряд людей с разным бэкграундом и разными сферами занятий так или иначе играл в позднесоветской, а затем и постсоветской культуре подобную роль. Эта распространенность «людей-институтов» в русской культуре свидетельствует лишь об одном: о слабости институционального каркаса культуры. Человек в России вынужден подменять собою отсутствующие или испорченные институты. Вакансия «человека-института» появляется и востребуется в странах культурно отсталых: в первой половине ХХ века подобную роль брали на себя, например, Бенедетто Кроче в Италии или Хосе Ортега-и-Гассет в Испании. Италия и Испания того периода – типичные страны культурной периферии. И не случайно литературы именно периферийных стран всегда наиболее интересовали Бориса Дубина.
Но в многостаночности Дубина было кое-что, выделявшее его из ряда других «людей-институтов». Дистанция между разными сферами занятий Дубина была столь велика, что приводила к включенности в существенно разные социальные сети. Гаспаров, например, таким не был: он был, конечно, включен в разные группы специалистов, но все эти группы принадлежали в общем и целом к одной и той же субкультуре гуманитариев-словесников, выпускников филологического факультета. Дубин же, как совершенно точно заметил его ближайший друг и соратник Лев Гудков, «был связным самых разных сред: литературных, научных, общественных, культурных, где представлял разные значения разных сторон». Я хотел бы чуть подробнее сказать лишь об одном из многих аспектов этой толмаческой роли Дубина. Он сделал исключительно много для преодоления разрыва между русскими филологами и языком социологии. Когда в 80-е годы в первых выпусках «Тыняновских сборников» стали появляться статьи Дубина и Гудкова, посвященные социологии русского литературного сознания, филологи, читавшие их, попросту не могли понять, что в них написано. Прошло 20 лет – и то, что казалось раньше тарабарщиной, стало для тех же филологов понятными текстами, насыщенными мыслью. Метаморфоза эта случилась в первую очередь благодаря постоянному диалогу Дубина с филологической средой, происходившему c 1992 года в стенах издательства «НЛО» и на страницах журнала «НЛО». Огромную роль сыграл также семинар по социологии литературы и культуры, который вели Дубин и Гудков в РГГУ с середины 90-х годов. В результате молодое поколение филологов-русистов впитало язык социологии еще на студенческой скамье.
В случае Дубина перед нами – неутомимая работа на благо России и русского языка, основанная на чувстве безнадежности.
Человек-институт, человек-посредник, Дубин был неутомимым просветителем. И тут мы подходим к замечательному противоречию. Эта неустанная просветительская работа находилась в поразительном диссонансе с безнадежностью дубинского взгляда на Россию как на страну несостоявшейся модернизации. Пессимизм этот запечатлелся в массе статей, докладов и интервью Дубина: в сущности, эта безнадежная мысль о России составляет лейтмотив текстов Дубина. Мы привыкли считать, что культуртрегерство неразрывно связано если не с верой в будущее, то, по крайней мере, с надеждой на будущее, со ставкой на будущее – короче, с культурно-историческим оптимизмом (пусть и сколь угодно ненаивным). В случае Дубина перед нами – неутомимая работа на благо России и русского языка, основанная на чувстве безнадежности. Перед нами безнадежность как побудительный мотив конструктивного социального действия. Возможно ли такое? Да. Здесь можно вспомнить донесенное до нас мемуаристами знаменитое изречение Пунина: «Главное – не теряйте отчаяния». Можно вспомнить Киркегора и Камю. А можно вспомнить формулу Дубина: «Жить невозможным». Так Дубин озаглавил свой некролог Вадиму Козовому. Сегодня мне слышится в этой формуле девиз всей жизни самого Бориса Дубина.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаНовый альбом «ДДТ», возвращения Oxxxymiron и Ёлки, композиторский джаз Игоря Яковенко и другие примечательные альбомы месяца
18 ноября 2021183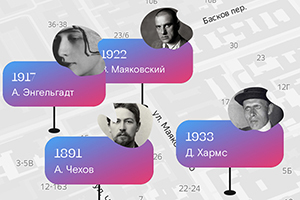 Театр
Театр Общество
ОбществоО чем напоминает власти «Мемориал»* и о чем ей хотелось бы как можно быстрее забыть. Текст Ксении Лученко
18 ноября 2021187 Кино
Кино Театр
Театр Литература
Литература Colta Specials
Colta SpecialsЭбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века
16 ноября 2021208 Colta Specials
Colta SpecialsПеред лекцией в Москве известная шведская писательница, филолог и феминистка рассказала Кате Рунов про свою долгую связь с Россией
16 ноября 2021168 Академическая музыка
Академическая музыка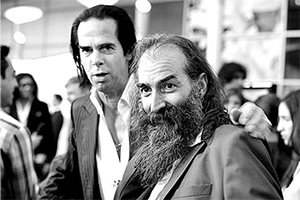 Современная музыка
Современная музыкаВ книге «Жвачка Нины Симон» Уоррен Эллис, многолетний соратник Ника Кейва, — о ностальгии, любви, спасительном мусоре и содержании своего дипломата
16 ноября 2021165 Академическая музыка
Академическая музыка Молодая Россия
Молодая Россия«В новом обществе как таковых болезней нет, не считая расстройства настроения или так называемого мудодефицита. Страны Западного и Восточного конгломератов даже соревнуются за звание самой мудостабильной страны». Рассказ Анастасии Ериной
15 ноября 20211167