 Colta Specials
Colta SpecialsБез будущего
 © Александр Чумичев, Валерий Христофоров / ТАСС
© Александр Чумичев, Валерий Христофоров / ТАССЛев Оборин, которому в 1991 году было четыре года, рассказывает в преддверии фестиваля «Остров-91» о том, что августовские события девяносто первого года значили для его поколения, и о том, почему Родина — это не только место, но и время.
Я родился в 1987 году. События 1991 года для меня — память, ушедшая куда-то в подкорку. Я помню отдельные яркие эпизоды до 1991-го (в первую очередь, тяжелую болезнь в три года), воспоминания-вспышки; я жалею о невозможности вспомнить больше, но немного вчуже. Наверное, так смотрит на редкие фотографии дорогих реликвий человек, по какой-то причине этих реликвий — и еще множества сокровищ — лишившийся еще в младенчестве: он никогда толком не видел их, ему трудно по ним скучать, но они вызывают у него любопытство и сожаление. Почти каждый из нас, за исключением уникумов, помнящих себя чуть ли не с двух месяцев, — такой человек.
Наверняка многие такие флэшбеки из моего детства — мама уходит на работу в моем любимом светло-голубом плаще; папа показывает диафильмы; я качаюсь на качелях; перелистываю книгу, в которой есть одна страшная картинка, — относятся к 1991-му, но я этого не знаю. Только один эпизод относится к нему точно: конец декабря, я сижу на ковре и играю в кубики, по телевизору Горбачев говорит о сложении с себя полномочий. Видел ли я, как спустили с кремлевского флагштока красный флаг и подняли триколор? Сейчас мне кажется, что да, но это может быть и ложным воспоминанием, сгустившимся из позднейшего просмотра видеороликов.
Дней августовского путча я не помню начисто (в отличие от расстрела Белого дома в 1993-м — это помню очень хорошо). Но вокруг этих дней всегда жила маленькая, но все же полноценная семейная легенда. Родители, оставив меня на бабушку, рванули к Белому дому. В то время в Москве угораздило случиться Конгрессу соотечественников, куда приехал и мой дядя со своей женой, известной слависткой; дядя эмигрировал еще в 1970-е, теперь выглядел заправским американцем, советскую власть, разумеется, ненавидел, и ему все это было крайне любопытно. Одна участница конгресса, ныне известная переводчица русской литературы, увидев танки, помчалась в аэропорт, бросив чемоданы в гостинице, и моментально улетела. Потом она рассказывала, что в ней проснулась — прямо на уровне физического ощущения — память предков. Когда-то ее предки, убежавшие с белыми в Крым, успели буквально на последний пароход в Константинополь: их взяли при одном условии — все вещи они должны оставить на пристани.
Родители — молодые, веселые, битлз-бибиси-самиздат — танков не боялись. Солдаты в танке были еще моложе. Моей маме они годились не в младшие братья, а в ученики (она работала в школе). Она дарила им цветы и просила не стрелять. Солдаты обещали, что стрелять не станут. Родители простояли у Белого дома до вечера и уехали, когда пошел слух, что сейчас начнется штурм «Альфы». О том, что «Альфа» штурмовать Белый дом отказалась, еще не знали. Словом, история — ничего особенного, но для родителей — и, соответственно, для меня (мне об этом часто рассказывали) — она была очень важной и романтичной. Я не раз прибегал к ней двадцать лет спустя, когда родители боялись, что я пойду на митинг и мне там «дадут по голове».
У меня было очень счастливое детство. Ребенку не нужно богатств. Я знаю, что в девяностые было тяжело, в том числе и моей семье — горели деньги, накрывались работы, — но я этого благодаря родителям не замечал. Я знаю, что множеству детей не повезло так, как мне. Для меня девяностые были временем прекрасного детства, и это часто заставляет меня думать о Родине как о времени. Мы привыкли, что Родина — это место. Но Родина — это и время.
Те, чье детство пришлось на 1990-е, росли будто в фокусе разновыпуклых линз или в условиях небывалой химической реакции. Все общие слова о том, какое невероятное это было время, как мы не сумели воспользоваться тем, что оно предлагало, что сегодня путч бы не провалился, страшно и голодно, весело и вкусно, продажные и настоящие, секс и религия, музыка и кино, война и наркомания — давно произнесены. Можно ли позволить себе дистанцироваться от этих общих слов? Монотонность/стабильность/страх — залог памяти-привычки; яркое событие, преодоление страха, которое оказалось легче, потому что произошло со всеми хотя бы тогда в Москве, — залог памяти-вспышки. Свет от второй памяти продолжает разлетаться, а вместе с ним — гравитационные волны первой. «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы». Сегодня моему старшему сыну столько же лет, сколько было мне в августе 1991-го. Я хотел бы чувствовать то, что тогда чувствовали мои родители — а они чувствовали, что впереди что-то новое и, может быть, хорошее новое. Оказалось, что впереди была наша жизнь — с хорошим и плохим. А август 1991-го остался в ней чем-то вроде фонаря.
Приходите на «Остров-91»!
Вход бесплатный. Программа — тут.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202238872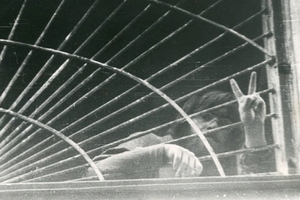 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202255080 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202235846 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 202282792 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202249274 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202236629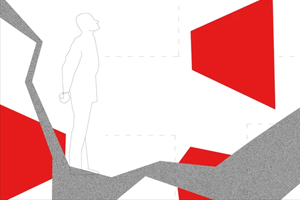 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали