 Театр
ТеатрПространство для чтения
 © Новая Газета, Colta.ru
© Новая Газета, Colta.ruКнига Елены Костюченко «Условно ненужные» написана очень простым языком. Я, собственно, примерно так представляю себе язык новой русской прозы — какой она могла бы стать, но не захотела пока. Придуманное Линор Горалик название отсылает читателя к одному из романов датчанина Петера Хёга, проза которого по-русски в переводе Елены Красновой звучит примерно настолько же скупо: эмоции тщательно отрефлексированы и в значительной степени изглажены из текста. Иногда язык этот доходит до состояния почти формального: кажется, вот-вот — и автор перейдет к переменным и операторам математической логики. Впрочем, разумеется, это так только для глаза или уха, непривычного к языку «журналистики факта». Или скажем иначе: непривычного к речи свидетеля.
«Условно ненужные» ставят рецензента в довольно сложное положение. Под обложкой собраны газетные репортажи, каждый из которых я уже читал в «Новой». Некоторые вещи нет смысла обсуждать: да, это журналистика, какой она должна быть. Костюченко не фронтовой корреспондент и не политический аналитик. Она делает работу, куда более редкую в наших широтах. Это работа проникновения в складки социального пространства — в его темные углы и белые пятна. Первые она обшаривает лучом своего карманного фонарика. Во вторых, наоборот, сощурившись, прикрыв глаза от прямого света, старается различить знакомые линии и черты. Вопрос тут вот в чем: какое новое качество приобретают эти тексты, оказавшись книгой? Что происходит с ними, изъятыми из течения повседневности?
Ненужность. Да, некоторым образом, книга эта и вправду о людях, которые никому не нужны. В книге есть очерк «Тропа войны» — о Сергее Рудакове, боровшемся за то, чтобы ему выплачивали законную пенсию, не добившемся справедливости и расстрелявшем в итоге нескольких чиновников нижнетагильского Фонда социального страхования. Одна из героинь очерка, руководитель государственного пенсионного фонда города Качканара, так и говорит в конце: «Жизнь человеческая здесь давно обесценилась и не стоит ничего. Мы тоже никому не нужны. Нам тоже страшно». Следователь, ведущая дело Рудакова, вторит ей эхом: «Да, чувствовал себя обиженным, ненужным. Но в этой стране мы все ненужные…» Другой текст — «Кольчугино. Хроники», формально говоря, представляет собой журналистское расследование дикой истории, происшедшей в Кольчугине (Владимирская область,120 км от Москвы): четверо молодых людей сожгли (возможно, заживо) на Вечном огне рабочего с местного металлургического завода, сделавшего им замечание. Двое из подозреваемых — выпускники Кольчугинской коррекционной школы-интерната, замдиректора по воспитательной работе которой говорит о своих подопечных так: «Здесь им дают одежду и еду и занимают их время. Но их не убережешь от мира. А миру они не нужны. Они изуродованы от рождения, брошены своими родителями. И когда они выходят из интерната, мир плюет на них».
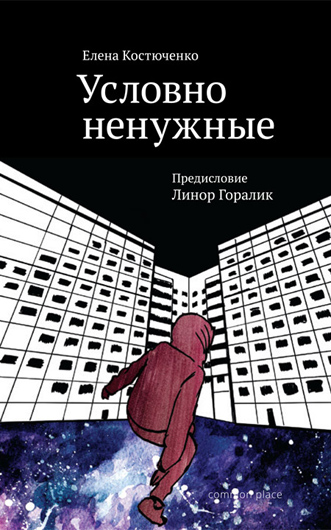 © Common place
© Common placeТак или иначе, почти все собранные в этой книге истории — о ненужности. Но не только. Ненужность почти неизбежно влечет за собой вопрос: кому? Кому ненужные? На него есть простой ответ: государству. Именно об этом пишет в предисловии Линор Горалик, предлагающая применительно к историям этой книги образованный по созвучию с failed state («провалившееся государство») термин bailed state — «свалившее государство»: «оставившее своих обитателей на произвол судьбы, <…> вернувшее граждан в состояние как минимум премодерна, жесточайшей общинности, где в крошечном мире (будь то мир деревни Бухалово или полицейского отделения) все держится на строжайше выверенном, невыносимо напряженном балансе индивидуального выживания и взаимной поддержки».
В книжной рецензии, увы, не место подробной полемике на отвлеченные темы — однако невозможно не заметить, что применительно к сюжетам большинства очерков государство никак нельзя назвать «свалившим». Напротив, оно присутствует вполне явно. Отчаянное, действительно совершенно безнадежное положение героев текста «Жизнь “гнезда”», — наркозависимых, употребляющих дезоморфин («крокодил»), — разумеется, не было бы таким отчаянным и таким безнадежным, если бы не бессмысленная «война с наркотиками», в отечественном варианте криминализующая программы снижения вреда и даже заместительную терапию. Если бы «12-я статья 125-го, основного для соцстрахов, закона» не запрещала соцстраху увеличивать выплаты самостоятельно, если бы уже упоминавшемуся Сергею Рудакову не пришлось идти в суд — возможно, очерка «Тропа войны» не было бы в этой книге.
Да что там: если бы «долгий имущественный спор между федеральным государственным унитарным предприятием “ВПК-Технотэкс” и департаментом имущества Москвы» выиграл бы не город (т.е. не государство), то, глядишь, и тендер 2004 года о возобновлении строительства выиграл бы не связанный с городом «Медстройинвест», а какая-нибудь просто девелоперская компания — и описанная в тексте «ХЗБ» (Ховринская заброшенная больница) территория оказалась бы не «автономной зоной» обитания подростков-аутсайдеров, а чем-нибудь совсем другим. Другое дело, что да, конечно, — герои этого очерка никуда бы не делись.
Но вот же когда глава Качканарского пенсионного фонда Татьяна Ивановна Грошева говорит: «Мы тоже никому не нужны» — она, госслужащая, о чем говорит? Кому — никому? Почему милиционеры из текста «От рассвета до рассвета» смотрят сериалы про условных себя? Да потому, что они тоже «никому не нужны»: «в любви сотрудников к сериалам “про ментов” есть какая-то нездоровая сублимация — сериалы убеждают, что милиция действительно очень нужна людям». Здесь же криминалист Егор, попавший в милицию, чтобы откосить от армии, ненадолго, — остается на службе, объясняя это так: «Ты не думай, что я боюсь. Я ребят не боюсь. Но я им очень-очень нужен». В других текстах дихотомия нужность — ненужность не проговаривается настолько напрямую, но все равно оказывается центральной — и в длинном цикле «Жизнь на обочине “Сапсана”», и в «Трассе», и в других. На этом месте есть соблазн повести разговор об отсутствии солидарности, о низком уровне доверия, о несостоявшейся политической нации — и какой словарь ни используй, разговор этот будет иметь некоторый смысл. Однако свидетельствам, составляющим «Условно ненужных», кажется, немного тесно в рамках расхожих политологических гипотез.
Написанная этим языком книга на самом деле представляет собой длинную, выверенную, относительно подробную речь — свидетеля. Ничьего свидетеля — ни обвинения, ни защиты — и вообще не в суде, никакого суда не будет.
Тише всего — и оттого пронзительнее — мотив ненужности звучит в очерке «Оля и тишина», оглохшая героиня которого играет Смерть в пьесе Славомира Мрожека «Вдовы». Пьесу репетируют, в свою очередь, в театре «Синематографъ», который руководство ГСИИ выгнало вроде бы из помещения института, — однако подробностей мы не знаем, потому что текст не о театре, а о девушке Оле. У нее очень несчастливая судьба, всё против нее. Тут полагалось бы написать, что она очень хочет быть счастливой. Но это не так, нет. Она хочет быть нужной. Поэтому сначала она выходит замуж за… честное слово, не знаю, какое тут поставить слово, чтобы не нарушить пару-тройку «законов Российской Федерации», — ну вы поняли, за кого она выходит. Долго этого м*дака терпит. Потом, уже освободившись от него, к концу очерка, идет «преподавать фламенко неслышащим студентам ПТУ и вузов» за 13 000 рублей, отказываясь при этом от государственного пособия в 8000. И когда дама в собесе спрашивает ее, уверена ли она, что хочет работать — при том что разница всего 5 000, — Оля говорит: «Да». И еще потом говорит, уже автору книги: «Знаешь, если бы я слышала, у меня была бы другая профессия. Точно. Стала бы я счастливее?»
Кому (или чему) не нужны герои этой книги? Можно, конечно, сказать: государству. Но это будет неверный — или, по крайней мере, далеко не полный — ответ. Книга Елены Костюченко — действительно важная книга, потому что, хочет автор того или нет, нынешняя Россия предстает в ней чем-то вроде сведенборгианского ада, обитатели которого не понимают, что умерли, а главное — что здесь уже никто никому не нужен. В текстах «Условно ненужных» все почти точно как у Сведенборга: «в некоторых адах виднеются как бы развалины домов и городов после пожара — тут живут и скрываются адские духи. В менее жестоких адах виднеются как бы плохие избушки, иногда сплошь наподобие города, с улицами и площадями: в этих домах обитают адские духи, предаваясь постоянно ссорам, распрям, дракам и истязаниям; на улицах и площадях совершается воровство и грабеж».
Нет, не то чтобы это был мир вовсе без проблесков света — но они коротки и в пространстве книги едва заметны: ну разве что девочка Саша из ХЗБ скажет что-нибудь такое: «А я хотела открыть лекарство от рака. С 12 лет мечта у меня такая была». Или проститутка Нина из «Трассы»: она собирается выйти замуж за жениха Васечку, он «младше ее на 10 лет, сейчас на стройке в Москве» — и пишет ему то и дело нежные SMS. Или, наконец, директор театра «Синематографъ» Ирина Кучеренко мечтает о том, чтобы московский департамент культуры, т.е. нынешнее ведомство С. Капкова, официально признал их театром, тогда «можно было бы всем сделать маленькую зарплатную ставочку. Был бы свой зал…» И она не сидит, не ждет, пока это произойдет, а «воюет за гранты»; впрочем, своей сцены и репетиционной базы у театра как не было, так и нет.
Попытки стать кому-нибудь нужным здесь не заканчиваются ничем: Оля в конце концов уходит от мужа, разбив все в их общем доме, что можно было разбить, — включая окна. Один из героев «ХЗБ», Слем, «умирает, упав в шахту лифта с девятого этажа». Героиню «Трассы» Нину в конце очерка «на ночь отдают поселковым». И безнадежность эта — если думать о ней как о свойстве книги, а не жизней людей, ее населяющих, — связана, наверное, с тем, что никакая речь не может вместить столько чужой речи (хотя автор постоянно отступает в тень, уступая место своим героям) и столько чужого горя, сколько должна — для того, чтобы оказаться свидетельством.
«Жизнь “гнезда”» заканчивается так: «через неделю один из этих людей умрет — ночью, во сне, остановится сердце. Другой вопреки всему сдаст анализы и попытается лечь на детокс — спастись». «Вопреки всему» и «попытается спастись» — и сами по себе не то чтобы слова из языка надежды и веры в будущее. Однако действительно безнадежна здесь самая последняя фраза: а имена их не важны, потому что вам на самом деле все равно.
Вопрос тут вот в чем: кому — вам? К кому обращена эта книга? Не к государству же под названием Российская Федерация. И не к Господу Богу — уж наверное, нет. К нам, в смысле, к нам всем, составляющим русское общество, какое ни есть, — да, но только отчасти. В каком-то, что называется, холодном высшем смысле «Условно ненужные» в целом кажутся мне книгой, которая не обращается никуда, ни к кому, ни к чему. К нам с вами меньше не обращается, чем к остальным/остальному, — но тоже не очень. Мы сброшены со счетов в первом же тексте. Потому что нам «на самом деле все равно».
Но зато теперь, вот теперь — когда не нужно уже взывать, уговаривать, убеждать, объяснять и вообще делать нас с вами и мир в целом лучше; теперь, когда нет уже никакой особой надежды вообще ни на что, — вот теперь, в этот самый момент, возникает книга Елены Костюченко — и язык, на котором она написана. Такой немного нечеловеческий, слишком ровный, чересчур точный русский: скупой, спокойный язык свидетельства. И написанная этим языком книга на самом деле представляет собой длинную, выверенную, относительно подробную речь — свидетеля. Ничьего свидетеля — ни обвинения, ни защиты — и вообще не в суде, никакого суда не будет.
А просто так, просто свидетеля, просто свидетельствующего. Просто потому, что так надо.
Елена Костюченко. Условно ненужные. Сб. статей. — М.: Common place. 274 с.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Театр
Театр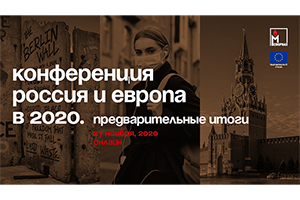 Мосты
МостыСегодня на Кольте — трансляция конференции о политических и общественных итогах сложного 2020-го с участием ведущих политологов и социологов
27 ноября 2020838 Искусство
ИскусствоГлава из книги Павла Алешина «Династия д'Эсте. Политика великолепия. Ренессанс в Ферраре»
26 ноября 2020183 Современная музыка
Современная музыкаЛевша-пацан о том, как он поехал на Ямайку, подружился с даб-гуру Ли «Скрэтчем» Перри и спродюсировал его совместные альбомы с Борисом Гребенщиковым
26 ноября 2020216 Театр
Театр Академическая музыка
Академическая музыка Современная музыка
Современная музыка«Песни — это главное»: премьера дебютного сингла группы Яны Смирновой, экс-вокалистки «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки»
25 ноября 2020328 Современная музыка
Современная музыкаМинская группа с международной карьерой — о новом альбоме «Monument», поколении думеров, мировом успехе и ситуации в Беларуси
24 ноября 2020201 Кино
Кино«Я — Грета». Инна Денисова — о том, как парадный портрет Греты Тунберг оказался «Криком» Мунка
24 ноября 2020116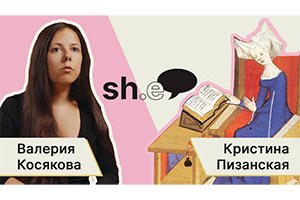 She is an expert
She is an expert Colta Specials
Colta SpecialsГендиректор Центра Вознесенского Ольга Варцева рассказала Линор Горалик о новых возможностях работы в условиях пандемии
24 ноября 2020138 Мосты
МостыПочему одним из центральных направлений отечественной эмиграции стала Прага? Соответствует ли действительности русский культ Гавела?
24 ноября 20201294