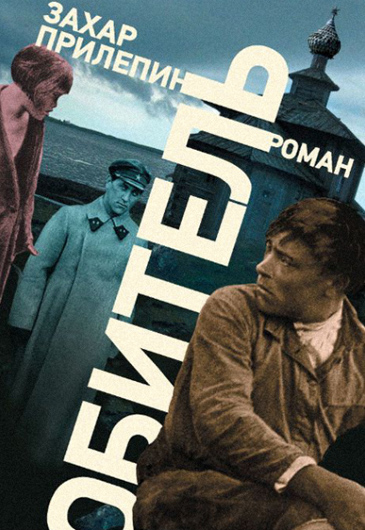Рецензии на беспомощные книги не нужны никому, как и рецензии на гениальные тексты. Если о вас пишут — значит, вы уже не никто, но, слава богу, еще не ангел, литература — земной удел, а не удел небожителей. Новый роман Захара Прилепина «Обитель» рекламируется так широко (в том числе и самим автором), что может закрасться подозрение: может быть, не читать? Моя задача — предостеречь: разумеется, читать.
* * *
Следует читать, по возможности отбросив и любовь к Прилепину, и неприятие его, и любое понятное по отношению к нему предубеждение. Читать, не останавливаясь на первых страницах: «Обитель» стартует со стилистически совершенно прилепинского и, право слово, безобразного авторского введения. Комом так комом: если вы хотите абсолютной стилистической точности, то уже здесь вам будет с чего поморщиться. Чувство языка порой отказывает всем — и автору вы потом простите и его непонимание того, что «лежит ненаряженный» — это о покойнике, а не о спящем ребенке, «хлебалово» есть помесь «хлебова» и неудобопроизносимого о лице, и «крепкий настрой немного расшатался» (конечно, это не настрой никакой, а настой), и комичный «резкий колик» где-то во чреве авторской фигуры.
Такого там много. Русский роман, действие которого происходит посреди Соловецкого лагеря особого назначения в поздних 1920-х, конечно, не может во втором десятилетии следующего века быть написан вне попытки диалога с Александром Солженицыным. Игры с языком в народность, попытки исправления и улучшения его под флагом возврата к истокам для Прилепина были неизбежным, увы, соблазном.
Столь же неизбежным соблазном были для автора и словесные игры с «Войной и миром». Ну как не начать большой роман с французской цитаты? Не беда, что она выглядит как французские фразы «Бориса Годунова». Читатель увидит в тексте сложные заигрывания с русской литературой: и неизбежного Пушкина, и избегаемого Лермонтова, и тщательно изгоняемых Солженицына и Толстого, и Астафьева (но не Бондарева), и боготворимого Прилепиным Леонова (но и просто любимого им и почти забытого всеми бледноватого Шишкова), и уважаемого автором Дмитрия Быкова. И следы еще двух десятков профилей из литературных святцев — так на Соловках именуют игральные карты. Среди них в колоде, разумеется, и Джонатан Литтелл. В первые годы после прочтения «Благоволительниц» действительно сложно говорить что-то о смерти, как сложно было говорить что-то о жизни после Данте.
Право слово, запретить бы писателям читать друг друга! Но это невозможно, как невозможно заставить их не искать склоки с предшественниками. «Если бы самому Толстому в детстве читали такие сказки — из него бы даже Надсон не вышел», — презрительно говорит один из героев Прилепина о яснополянских сказках для детей. Да, подростки, даже выросшие, не любят детских книг, и к детям они равнодушны — они конкуренты за игрушки и внимание. Но, хотя в предисловии Прилепин и признается, что не видит никаких отличий между собой и четырнадцатилетним сыном (что, заметим, совершенно очевидно в его ранних текстах), поставленная в «Обители» задача не для юноши, но для мужа в летах.
Во всяком случае, в совершенных летах.
* * *
Оставим ерничество. Исследовать концентрационный лагерь, лагерь смерти, — без нравоучений, без предзаданного вывода, без инструментария, выработанного общественной моралью, — истинным методом художественного исследования, который так часто отказывал и Толстому, и Солженицыну, — вот поставленная задача. И тем сложнее она для Прилепина, автора идеологизированного и человека твердолобого. Отказ двигать свою идею, отказ подыгрывать себе — не часто литераторы в России вообще брались за такое: слишком это серьезное самоограничение.
Это самоограничение, которое, как мне кажется, уже одно должно обращать внимание на прилепинский текст, во многом определило и его форму. По существу это повесть.
Означает ли это, что задача создать русский роман не удалась? Но эта повесть создана большим и более тщательным трудом, чем большинство русских романов последнего десятилетия. Скорее, это особенность замысла, возможно, следствие самоограничения автора. Чистого вдохновения, ощущения себя гениальным писателем (а, думаю, Прилепину свойственны приступы этого самоощущения) в этом довольно аскетичном тексте немного. В нем видимо более труда, который большинство читателей сочло бы каторжным. И этот труд не напрасен.
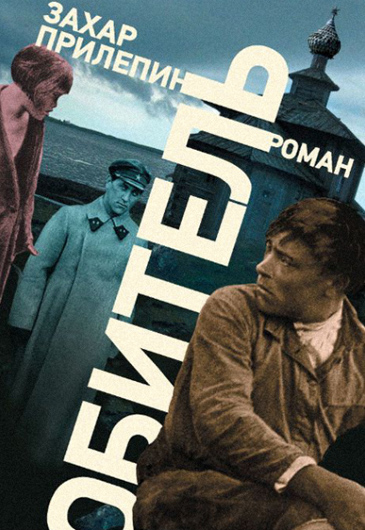 © АСТ
© АСТКаторга и описывается — причем наказанием на этой каторге становится не столько каторжный труд, сколько именно физические лишения, ограничение свободы, едва ли не кандалы. Главный герой, молодой человек, попадает на соловецкую каторгу и готовится к тому, как Соловки будут его убивать. Его, Артема, душу и его тело.
Из сказанного уже можно заключить, что речь идет о романе воспитания. Но, удивительно, именно воспитания в романе почти нет — герой Прилепина в движении текста скорее исчезает, чем появляется. В первой книге, в экспозиции, его еще достаточно много. Но тоже скупо, без избытка. Например, о том, что Артем, вполне интеллигентный и думающий юноша, попал на Соловки не за вольнодумство, а за убийство любимого отца, от пьяных кулаков которого он во вполне достоевском интерьере защищал вполне достоевскую нелюбимую мать, мы будем лишь догадываться, пока не узнаем об этом потом как о совершенно неважной детали. Во второй книге герой начнет исчезать, а в третьей (вторая половина второй авторской книги, технически и сюжетно являющаяся отдельной третьей книгой), по сути, будет нужен нам лишь как источник зрения, то есть — как обычное видящее тело.
* * *
Тема тела в «Обители» вряд ли случайна, хотя название книги скорее всего принадлежит издателю. Слишком коммерчески-претенциозно оно звучит по отношению к тексту и слишком много возможной и почти исключенной из самого романа иронии может звучать в нем. «Обитель» Прилепина, Соловки, — это место, где трудом православных святых Зосимы и Савватия много веков назад тело начало расставание с душой, и в 20-х все это продолжалось и будет продолжаться.
Смерть на Соловках так же привычна в XVI веке, как и в XX, — много ли разницы в том, как и кто мучает невинного человека, если это делает, по Прилепину, в такой же степени виноватый человек? Все виноваты, ибо у всех есть тело. Но, как и полагается тюремному роману, главным героем здесь будет не душа, а тело. Оно болит. Оно видит муху на синем языке покойника в трясущейся на кочках телеге. Оно слышит, как поэт Афанасьев вдохновенно описывает десятки видов несоловецких закатов — на Соловках закат как нож, но тело презирает метафоры, поскольку боится ножа. Оно покрывается гусиной кожей от одного вида осенней воды, в которую нужно лезть, чтобы до полусмерти таскать на себе скользкие и тяжкие бревна-баланы. Оно голодает и с радостью принимает баланду. Оно вдыхает смрад от чернобурых лисиц, выращиваемых рациональным хозяином лагеря смерти для организации экспортных поставок меха — парижские и стокгольмские женщины купят шубы. Оно смывает чужую кровь с чужого сапога. Оно голодает. Наконец, оно целует женщину — в существовании женщины, чекистки Гали, и должен, кажется, быть сюжет.
«Обитель» имела все шансы стать в том числе романом о чувственности — но как раз в этом наибольшая проблема текста. В тексте так много эротического, что несуществование в нем женского персонажа просто изумляет. Тем не менее главная женская фигура у Прилепина по существу отсутствует, она отрывочна, неочевидна, ее нет необходимости понимать и нет никакой возможности понять: вымышленный дневник Галины как приложение к тексту лишь демонстрирует, в какой степени для Прилепина это проблема. «Обитель» — предсказуемо роман о мужчинах (да и о ком бы мог быть роман, действие которого происходит преимущественно в мужских бараках Соловков). Но то, что в истории любви Артема нет второй половины, нет определенного существа, для которого тело и душа едины, — едва ли не трагедия. Женщина не спасла — а значит, многое напрасно.
Прилепин, в своих предыдущих текстах отказывавшийся от бесстрастности, выигрывал этим многое. Там, где в «Обители» к беспристрастности удалось приблизиться, — ткань текста предсказуемо мертва.
Впрочем, нет и начальника лагеря Федора Эйхманиса. Разумеется, в тексте Эйхманиса — говорящего, действующего, орущего, даже беседующего с героем (увы, пьяным) — никак не меньше, чем Галины. Но это ничего не дает. Оба — чекисты, то есть люди, почти не проговаривающиеся. Прототип, Эйхманс, был когда-то латышским стрелком, даром что немец, работал в типографии и в универсальном магазине «Мюр и Мерилиз», воевал в Туркестане, потом стал контрразведчиком — но, увеличенный всего на одну русскую букву, он уже превратится в оживленную фотографию. Эйхманис при этом лишь в одном месте упомянет «пиратский фрегат», но достаточно ли этого для того, чтобы вспомнить о Гумилеве? На Соловках не пишут стихов. Люди, убивающие себе подобных ради вполне неопределенных целей, даже не политических (в «Обители», как и обещано, почти нет политического в общепринятом понимании, истинная политика есть в понимании Прилепина и тем более должна быть вопросом этики, и это сильное и важное утверждение), не имеют свойств. Они почти всегда отсутствуют, поскольку все время куда-то едут, а убивают они в промежутках между открытием нефелиновых руд в Заполярье и разведением пушных зверей на соседнем островке. А когда они возвращаются и даже отдаются герою — взять с них нечего.
Это честное поражение автора, и поражение, делающее ему честь, от которой Прилепин, вероятно, откажется — а напрасно. У Литтелла тоже не получилось, и в этом величественно неполучившемся есть свой смысл: мы не можем и не должны понимать, что движет рукой убивающей, что происходит в голове палача и чем мотивирован посылающий ближнего на смерть. В душе нераскаянного убийцы не может быть развития. Во времена, описанные в романе, в России еще популярны были теории, согласно которым всякий убийца невменяем, находится в состоянии временного помешательства. В Германии в этот же момент их уже окончательно вытеснили социальные теории преступления.
Хотя вряд ли Захару Прилепину хотелось бы такого прочтения, но души и Галины, и Эйхманиса действительно уже мертвы — так же как мертва душа главного героя «Благоволительниц», она уже в Аиде, и в доказательство Литтелл и написал сотни таких страшных и бесполезных страниц.
И, как у Литтелла, в тексте вместе с людьми исчезают и все цвета: так Соловки становятся бесцветными.
* * *
Не знаю, стоит ли это относить к достоинствам или неудачам, но в «Обители», неспешно и последовательно обсуждающей в основном пустоты, каверны и тайники в душах ее героев, и в целом очень много чего не найдется. В ней, например, при всех усилиях автора нет географических Соловков — Русский Север, который любому пережимает горло, много больше человека: можно ли представить себе русский роман без убедительного пейзажа? «Обитель» обходится. В тексте крайне мало духа времени одного из самых важных периодов в истории СССР. В ковчеге Соловков, куда собирали всякой твари по паре, чтобы не спасти, а утопить, у Прилепина фактически нет крестьян. Может быть, они и есть номинально, как есть китайцы, аристократы, поэты, бывшие врангелевские контрразведчики, иностранные дипломаты, индийские подданные. Все они немало говорят, но они скорее тени — тени в аду.
В том, что действие «Обители» происходит в земном аду, не приходится сомневаться: ад виден только в противопоставлении, и противопоставление еще живых уже погибшим есть, и это то, что делает текст Прилепина литературой. Он выглядит как владыка Иоанн, «владычка», епископ, заключенный в Соловецкий монастырь для того, для чего в монастырь идет духовенство — чтобы покинуть мир, и встречающий там в силу дьявольского искажения реальности мир (толстовский «мир» из «Войны и мира»!), который нуждается в спасении. Сил обычного священника для этого мало, да и Бога, в сущности, нет. Но, будучи вознесен волею чертей на Голгофу, на Секирную гору, в холодный храм с оштукатуренными фресками, человек многое может. Вторая книга «Обители» — один из самых невероятных текстов в русской литературе, видение, ради существования которого, возможно, и был придуман Захар Прилепин. Читать стоит только то, что вы не забудете — а это вы не забудете.
Дело не в словах. Главные слова — о том, что в аду на Соловках находились не заключенные, а охранники, — говорит другой священник, батюшка Зиновий. Сам же владычка Иоанн говорит с нездешней точностью — например, лукаво вспоминая, как он порой восхищался собой: «Ах, какой же я хороший поп!» Но гораздо лучше он призывает людей к покаянию — и из духа музыки колокольчика, который предвещает очередной расстрел на Секирной, рождается музыка, и пером Прилепина движет наконец истинное сострадание: поверьте, я такое в своей жизни скажу о немногих текстах, и ради только нескольких минут такого движения стоит писать и стоит читать — даже если это движение пера минутно, а здесь это, увы, так.
Если бы вся «Обитель» была создана так полифонично, если бы автору удалось всегда забывать о себе, если бы им говорили только его герои — мне бы писать не этот текст, а жизнеописание автора. Впрочем, и этот опыт Захара Прилепина крайне полезен. Вряд ли было возможно нагляднее доказать, что метод художественного исследования не работает лишь через отказ автора от программных высказываний, от прямой демонстрации собственного мнения. Возможно, прозрачно сквозящая через текст и, право слово, довольно вздорная идея автора о продолжении светлого дела советских писателей сыграла тут свою дурную роль. Для всей когорты советских литераторов невозможность отказаться от убеждений была попросту вынужденной: хочешь писать без экивоков — пиши в стол. Идея Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ» заключалась в том, что истина, о которой свидетельствуешь, не нуждается в создании языка — она сама создает свой язык из слов повествователя. Но невозможен честный человек — регистратор событий, бесстрастный повествователь о вещах немыслимых, на котором нет кандалов. Прилепин, в своих предыдущих текстах отказывавшийся от бесстрастности, выигрывал этим многое. Там, где в «Обители» к беспристрастности удалось приблизиться, — ткань текста предсказуемо мертва. Там, где это не удалось, где есть Прилепин, не сумевший сыграть в отстраненного автора, — мир создается.
Так неудача замысла становится подарком нам.
* * *
После оглушающего начала второй книги романа конец ее, в сущности, не так важен и даже несколько избыточен — хотя и необходим. Там герой, все более исчезающий и все менее нужный, попадает во все более авантюрные и необязательные приключения самого страшного и необязательного же свойства. Разреженность текста возрастает, сильные и скорее символические ориентиры в нем все более нарочиты — и это попытка побега из Соловков (заканчивающаяся отказом даже от косвенного убийства невиновных), и торжественное отправление на смерть чекистов, с которыми герой оказывается в одной тюремной камере, и добровольная готовность умереть в почти античном децимационном терроре нового лагерного начальства, и отказ реальности принимать героя как жертву. Герои романа исчезают, не в силах более быть. Кинематографичность этой части книги очевидна и порой раздражает. Мне в ней, впрочем, видится своя логика. Героя уже нет, и именно поэтому все более сильные события его трогают все меньше и меньше. Роман воспитания, каким тоже могла бы быть «Обитель» (и хорошо, что не стала!), точно не получился. В финале текста герой есть просто движимая внешними силами марионетка — но марионетка смеющаяся, скалящаяся, торжествующая, отдающая должное движущим ее силам.
Потом, уже в послесловии, смеющуюся голую тень Артема, восторжествовавшую над телом, и предавшую тело душу незаметно зарежут уголовники на болотном озере, утопят в северном коротком лете. И ей будет совершенно не больно: он уже давно не здесь. Это и есть, при всех вопиющих недостатках текста Прилепина, правда повествования: на Соловках людей убивали, то есть предавали небытию. Демонстрация тщетности любых попыток обсуждать справедливость этих событий в «Обители» — ее лейтмотив. Но намерения автора остановиться именно на этом успокаивающем тезисе уничтожаются вмешательством языка; всякий раз это кажущаяся невозможность вывода — вывода огнем по стене: нет и не может быть ничего справедливого в убийстве души, своей или чужой.
Поэтому что с того, что «Обитель» — не гениальна, а лишь хороша и значительна, если в ней есть эта правда? Что с того, что текст Прилепина порой неизыскан, порой скучен, а порой и просто по существу отсутствует, если в нем точно есть то, что должно быть написано? А уж тем более — что с того, что автор «Обители» наверняка видит в своем тексте совсем другие смыслы, совсем другую логику? Роман этот был нужен хотя бы для того, чтобы движением, интонацией, архитектоникой провозгласить: если Бог и есть, то он есть язык описания. Все другие, все другое — вымысел, который следует отвергнуть. Бог слова — в буквальной правде, в том, что узнать, как это было, можно, лишь узнав и написав то, что понял: о Соловецком лагере особого назначения и о тех, кто в нем был убит.
И вымысел отвергнут, и в той мере, в какой он был отвергнут, — читайте; смерти вновь нет.
Захар Прилепин. Обитель. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. 746 с.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Мосты
Мосты