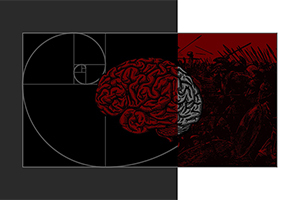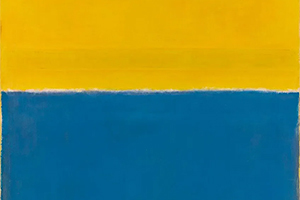Каким разным видится один и тот же человек нескольким смежным поколениям! Для моих родителей-шестидесятников Наум Коржавин — это, прежде всего, «социально опасный элемент», отважный и чистый диссидент, это послевоенная ссылка, «Тарусские страницы», дело Даниэля и Синявского и, по сути, изгнание в начале 70-х — безусловное уважение, восхищение, ореол. Для моего молчаливого поколения — автор смешной строчки «Какая сука разбудила Ленина?», человек, несомненно, легендарный, но в чем заключается легенда — полузабыто, а про стихи говорить особенно нечего — лишь горстка ранних и остается в решете. А для следующего, энергичного и насмешливого, — прежде всего, автор своих поздних статей и выступлений, выразитель одних и тех же одиозных взглядов (мои-то уже не очень в курсе, каких именно), задира, обличитель поэтики Бродского, раньше, может, и диссидент, а ныне порядочный носорог. И все это верно, это все один и тот же человек, вчера умерший в маленьком городке в холмах Северной Каролины.
Мы познакомились летом 2000 года в Русской школе в Норвиче. Была тогда такая чудесная должность «носитель языка» — ходить по ровным лужайкам мрачноватого, по-летнему опустевшего военного университета, приютившего русскую школу, и по возможности затевать разговоры с изучающими русский язык студентами. Я думала, что просто спасаю маму от нью-йоркской жары и одновременно окунаю дочь-подростка в чистую русскую речь. А вышло, что я познакомилась с Коржавиными. Эта пунктирная дружба продлилась, главным образом, эпистолярно и точно что весьма полемически, потому что Н.К. постоянно возвращался к теме Бродского, а также к разным другим важным для меня темам — мы не сходились ну буквально ни в чем. И удивительно при этом, что я не могла не слушать его часами и блаженно улыбаться — просто вот смотреть на него и вслушиваться в фонетически не очень внятную, но всегда доброжелательную и неизменно прямую речь.
— Вы все не умеете писать... Стихотворение должно быть как пуля — с начала до конца... А вы все не умеете этого...
Его знаменитая антипатия, пусть и с оговорками, к стихам Бродского — результат несомненно иной парадигмы стихописания, иной эры, из которой он вылетел в наш неуютный космос, вот и все. А свое понимание он считал единственно возможным — и в этом тоже была старомодность.
Через два года после первой встречи в Вермонте я получила по почте набранную огромным шрифтом длинную статью, еще черновой ее вариант с тысячью опечаток, — о марксизме и политике 60-х, о «плюрализме в одной голове», о том, как «тяжело одному быть неоригинальным», о родстве, как выражался автор, пропаганды авангардистской и тоталитарной — но главным образом, о Бродском, об активном неприятии автором его поэтики в целом и его популярности в частности. Этот конверт пережил по инерции пару моих переездов, но потом я с ним все же рассталась: текст этот, особенно в том, что касалось славы Бродского, как ее понимал автор, был мне неприятен. Но тогда я написала ответ, и вот он как раз сохранился — по нему сейчас и восстанавливаю текст статьи Коржавина. «В общем, с главным — тем, что касается стихов И.Б., — писала я, — я не согласна — не логически, а просто по впечатлению, которое они на меня производят». Я немного наивно писала о том, что стихи Бродского я именно люблю, а не «почитаю». Мое письмо заканчивалось сожалением о том, что мысли о поэзии вообще даны в статье пунктиром или по касательной и что я хотела бы увидеть отдельную работу его о стихотворении. И как мне понравилось там про принцип «курочка по зернышку клюет» (в те годы я работала учительницей в нью-джерсийской школе, и это было непросто).
Перечитывая сейчас свой ответ Н.К., я с удивлением обнаруживаю и вот этот отрывок — и по нему восстанавливаю одну из тем оригинала, мной позабытую, — а ведь эта «женская» тема почему-то всегда присутствовала в наших разговорах. «Откуда Вы знаете, как догадались про самоослепление влюбленной женщины, откуда Вы знаете про этот постоянный страх разочароваться? Я так думаю, что мужчинам он несвойственен, ибо любимые женщины более или менее равны себе, так что либо очаровывайся, либо нет. А вот мужчины очень многие двоятся, троятся, как отражения в пруду. Все эти Дорианы Греи немыслимы в женском обличье. И при этом речь идет вовсе не о злодействах — просто вначале думаешь: “Ох! Ах!” А потом смотришь: так, ничего себе, но не более того. Пузырь лопнул, и там внутри сидит довольно маленькая фигурка. И как Вам это известно — для меня загадка». Сейчас мне несложно вспомнить, почему меня так тронула эта часть статьи и вообще эта тема, — оброненное автором отзывалось в моей собственной жизни, как я ее тогда понимала.
«Ты никогда не станешь великим поэтом — ты для этого слишком женственна», — сказал он в каком-то разговоре. Я в ответ только ошарашенно таращилась. Не потому, что меня настолько потрясло это забавное пророчество, а потому, что поразило прилагательное: оперировать этими терминами — великости — в моем кругу и вообще в моем поколении было как-то не принято. А он продолжал: «А вот Ахматова была. Потому что она могла про всех забыть (кажется, он сказал «на всех начихать», но я точно не помню), а ты не можешь». То есть под женственным он имел в виду именно это: абсолютную концентрацию женской заботы, которая с работой в поэзии никак не сочетается. Я часто это вспоминала потом — конечно, без всяких прилагательных, но прикидывая, как я бы могла работать, будь я, например, мужчиной. Даже и семейным. Потому что настоящая работа требует возможности послать все и всех на фиг. А это не каждый может. И не каждый мужчина, добавлю я, тоже.
Эта тема пробивалась и в нашей беседе с Н.К. у него дома, в Бостоне, в июле 2006-го, когда я пришла брать интервью для нашего недавно появившегося журнала.
Из интервью «Сторонам света» [1]:
«Н.К.: Ахматова была великим поэтом и была очень умным человеком, очень точным. Я о ней написал статью, “Анна Ахматова и Серебряный век”. Она была трагическим человеком, потому что она была женщиной, а женщиной и поэтом, настоящей женщиной и настоящим поэтом быть очень трудно, потому что и то и другое требует всего человека. На жертву она могла пойти, а просто быть ежедневной матерью — нет. Я помню смешной разговор, у Марии Петровых. Она меня туда пригласила, Анна Андреевна. А Маруся варила суп. И вдруг Анна Андреевна: “Маруся, а Вы красите суп?” “Да, а Вы, Анна Андреевна, красите?” — спрашивает Маруся, хотя прекрасно знает (смеется), что Анна Андреевна никогда не красила и не варила суп. “Вы жарите лук?” А Анна Андреевна: “Мало сказать — жарю. Я его сжигаю!” Сжигаю! Она была великим поэтом и была дамой Серебряного века тоже. Вот я пришел в первый раз к Ардовым. Она была одна и открыла дверь. “А Вы меня такой представляли?” Я сказал, что видел ее недавний фотопортрет, Льва Полякова, и мне нетрудно было ее представить… “Вы меня такой представляли?” (Смеется.) Мы говорили о многих вещах. Она мне тогда прочла “Реквием”.
И.М.: Какой это был год?
Н.К.: 1960-й... 1961-й... Я потом пришел еще раз и сказал: прочтите, пожалуйста, еще раз ту часть, где
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ...
А она говорит: “А Вам нельзя читать стихи, Вы их запоминаете!” В этом тоже было некоторое кокетство, потому что она прекрасно знала, что поэты стихи запоминают. Поэт, который не запоминает стихов, — это вообще не поэт. (Смеется.) Вот».
(Сейчас это звучит обыденно, но скольким можно было отважиться прочитать «Реквием» в 1961-м?)
Коржавин часто прерывал сам себя хохотком или восклицаньем («...а уж Анна Андреевна умела сказануть!..»). И вообще, может быть, больше всего я и запомнила в Н.К. его смешливость — качество, мне самой чрезвычайно милое. Самые мои любимые люди были смешливы. Для меня это сразу — сто очков. Потому что это как-то всегда связано еще с одним симпатичным свойством: склонностью не принимать себя слишком уж всерьез.
«Н.К.: Относилась она ко мне хорошо, хотя началось это с того, что я прочел свою поэму “Танька”, которая тогда ходила в списках (я и сейчас от нее не отказываюсь), а ей очень не понравилась. Я потом понял, почему. Там была такая внутренняя проблема, трагедия людей, которые поверили. А для нее даже такого вопроса не было, она в эту игру не играла, для нее это были просто штыки, которые на нее шли, или дурачки, которые не понимали, что делали. Скорее, второе, она вовсе не была политическим борцом.
Хорошее ее отношение ко мне проявлялось по-разному. Однажды она рассказала мне о своем разговоре с какими-то иностранными корреспондентами. Они спросили ее об одном поэте, известном, я не буду называть его имя. Она сказала: “Ну что ж, всегда было много таких поэтов. В мое время его фамилия была Северянин”. “А какие же молодые поэты заслуживают внимания?” — спросили ее. Она назвала и меня. Потом она мне показывала, что пишут о ней иностранные журналисты: “Анна Ахматова писала эротические стихи, которые были неприемлемы для политического руководства”. “Посмотрите, что они написали! Они меня оскорбили”. Конечно, у нее никогда не было эротических стихов. Но люди, которые так писали, они думали в этих параметрах. Они не могли ее понимать.
И еще был такой важный разговор. Многие мне тогда говорили, что у Коржавина одни мысли, что это антипоэзия. А она мне ответила довольно резко: “У вас — мысль”. И я ее по телефону потом спросил: “Анна Андреевна, мне говорят, что это — мысль, не поэзия”. А она: “Извините, я пошлостей не говорю”. Это и правда была пошлость, но она распространена, она была даже таким тоном оппозиционности, высокости. Она началась в Серебряном веке, но тогда еще не была так откровенна, не настолько на пустом месте...»
В Норвиче Коржавина абсолютно все не просто любили, а обожали. Их вообще невозможно было не любить и не ценить каждого по-своему — его и жену Любу Мандель. В столовой ему хотелось принести свой десерт, хотя ему, конечно, было нельзя. Был там, в Вермонте, чудесный пекарь, австриец Диттер, однажды приехавший в эти фермерские зеленые холмы и так в них и оставшийся (говорили — из-за несчастной любви), высокий, очень худой голубоглазый красавец. К нему ходили домой покупать горячий хлеб. Я помню длинные чистые деревянные полки пекарни и в углу отдельно горка — прикрытые салфеткой булочки и хала — «for Naum». Диттер обожал Коржавина, хотя лингвистически у них мало было общей территории. В воскресенье Наум Моисеевич с Любой отправлялись «в церкву» — там недалеко был небольшой православный храм, в который Коржавиных возили друзья из Норвичской школы. Поэтому полвоскресенья его не было, и без него как-то становилось одиноко. И не с кем было не соглашаться.
Однажды, впрочем, я окончательно возмутилась и написала полемическое стихотворение, которое сейчас смешно перечитывать, — здорово же меня тогда достало! И немудрено. Само его понимание нашего ремесла было таким чужим, отличным от понимания близких мне литераторов — моего поколения и предыдущих: такие важные вещи, как, например, замысел стихотворения и соучастие читателя, понимались им совершенно иначе, как будто мы находились в разных измерениях. И Бродский, боже мой, опять Бродский.
И вообще, как получилось, что поэт, чьи стихи я не помню наизусть — разве что несколько отдельных строчек из ранних, человек, чьи вкусы и литературное мировоззрение были такими отличными от моих — то убегали вспять, чуть ли не в некрасовский XIX век, то вперед, в безапелляционность и резкость уже нашего (в те дни еще будущего) времени, — как так получилось, что этот человек оказался таким мне милым, вызывал такую нежность? Как будто он не говорил это смешное — что у Ахматовой не было эротических стихов и не называл авангард и его «пропаганду» новым тоталитаризмом. Это была симпатия — в агрипповском еще значении, симпатия между очень далекими вещами. Мне вообще стало казаться в эмиграции, особенно в общении с людьми его поколения, что чем дальше идеи человека, его культурные (но не нравственные!) парадигмы, тем сильнее притяжение. И все же, думаю, моя симпатия к Коржавину объясняется просто его человеческими качествами: очевидной нравственной чистотой, прямотой и цельностью, веселой нерасплывчатостью, отвагой — бумажного солдатика, предельной честностью («я был сталинистом»), логикой (тем, что бабушки и дедушки называли в моем детстве «хорошая голова») и прелестным чувством юмора. Тем, как он умел восхищаться и любить (например, как боготворил Ахматову и как горячо говорил о Веронике Долиной). Тем, что он все время был собой. И еще объяснялась — со вчерашнего дня уже в прошедшем времени — моим доверием к своей интуиции, никогда в отношениях с людьми не подводящей, и нарастающим осознанием — вовсе не оригинальным, конечно, — того, как ужасно быстро проходят эти — пусть даже и 92! — года, то есть растущей с годами уверенностью в том, что мы больше, намного больше того, чтó говорим и пишем и чем кажемся пристальным и насмешливым современникам.
У меня там, в Норвиче, было маленькое импровизированное чтение — и вдруг они с Любой пришли и сели — уже не близко, как-то сбоку, из окна на них лился дневной новоанглийский свет — они были прекрасны. А потом, через несколько лет, кажется, в 2003-м, Коржавиных неожиданно привезли на мой квартирник в Бостоне — осталась как раз недавно обнаруженная мной видеокассета, на которой я с удивлением увидела в первом ряду Н.М. и Любу — и сразу все вспомнила: как он просидел тогда весь вечер, внимательно слушая, молча, опираясь на палку, а потом попросил прочитать еще раз «Пришли простые времена» (такое у меня есть солдатское четверостишие). И потом сам его продекламировал в свойственной ему старомодной манере, немного с нажимом.
Я не помню, когда именно он подарил мне черный однотомник и надписал щедро и размашисто: он уже почти совершенно ослеп, и надпись вылезла за пределы титульной страницы и переползла на другие. Кажется, это было именно в день интервью. Я пришла тогда вместе с подругой и ее отцом, тоже отважным и бескомпромиссным человеком из того самого поколения, что видело в Коржавине героя и относилось к нему с неимоверным почтением. А.А. и сделал в тот день несколько снимков и даже маленькое видео на 16 секунд на допотопном мобильном телефончике. На снимках виден лабиринт: бесконечные книжные полки, какие-то перегородки и коллекция баночек с модными в то время биодобавками, которые называли ужасным словом «БАДы», — Люба очень ими увлекалась. Н.К. по-виннипуховски ворчал («Она меня этими баночками уморит!»), пока мы пробирались в комнату, Н.К. — практически на ощупь. А я подумала, что давно не видела семьи счастливее.
[1] Журнал «Стороны света», № 3, 2006 г.
Понравился материал? Помоги сайту!
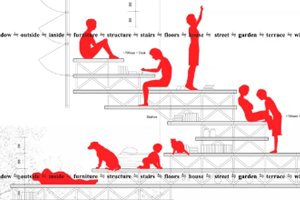 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали