 Colta Specials
Colta SpecialsБез будущего
 © Jānis Deinats
© Jānis DeinatsСпектакль Алвиса Херманиса «Бродский/Барышников» в Новом Рижском театре стал событием до премьерных показов. Это обстоятельство отчасти раздавило замысел режиссера, хотя обеспечило «Б/Б» высокий масскультовый статус. Причем вне зависимости от содержания реакций публики, в том числе профессиональной. Замешательство после спектакля было слишком очевидно, однако вслух не объявлено. Show must go on.
«Это — кошка, это — мышка. Это — лагерь, это — вышка. Это — время тихой сапой убивает маму с папой»; «Что за шум, а драки нету?» (Бродский, «Представление»; строки из него в спектакле не звучат, а вспоминаются невольно.) Но не будем увлекаться репетицией намеков на «кота» (И.Б.) и «мышь» (М.Б.), коими полнятся отклики на спектакль.
Парадокс восприятия «Б/Б» заключен в тиски проектного мышления Херманиса — и собственно представления. Замах на заведомый успех оказался мощнее размышлений о дразнящей встрече публики с М.Б., И.Б. и Херманисом. Не потому ли короткие отзывы на «Б/Б» крутятся/вертятся вокруг труднодоступности билетов, докладов об эшелонах знаменитостей, направляющихся в Ригу, чтобы приобщиться к событию и, главное, рассказать о нем несчастливцам, пропустившим хит латышского сезона с его застрельщиками. Но вот «что это было и зачем?» в обсуждениях как-то заглохло.
Если б я не опасалась выспренних ассоциаций, то назвала бы этот текст Postumus («тот, кто после»), отослав всех зрителей к «Письмам к римскому другу» И.Б. — «Пусть и вправду, Постум, курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя. Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря». Актуальность этого пассажа 1972 года пробивает в сегодняшней Риге разговоры всех понаехавших: либо на спектакль, либо по делам или отдохнуть. Удержусь от томительных (семидесятнических) трепыханий, связанных (пока что) с soft-эмиграцией. Этот подтекст из спектакля «Б/Б» исключен, но зал его подсознательно ощущает. Тут без личного опыта не обойтись. Равно как не забыть тавтологию реплик в случайных диалогах, сопровождавших меня в Риге, где я задержалась, будучи членом жюри международного кинофестиваля. Последний, вовсе не солнечный, удар настиг меня в московском аэропорту. У транспортерской ленты приятная во всех отношениях женщина спросила: «Как читал Барышников? Проникновенно?» Тут подоспел мой чемодан, и я удрала, уклонившись от ответа, но раздумывая о том, что бы значило это слово в данном контексте.
 © Jānis Deinats
© Jānis DeinatsСцену Нового Рижского театра занимает руинированный павильон, или застекленная веранда с дверью на авансцену. Этот павильон/веранда есть сцена на сцене. А значит — конструктивный модуль пространства. Пустая (с несколькими предметами) сцена на сцене прозрачна из-за стеклянных окон. На потолке — оголенные лампочки. На фасаде сцены на сцене — корпулентные купидончики, поддерживающие облупленный карниз, и распределительная коробка с торчащими проводами. Изысканное минималистское пространство есть площадка для воспоминаний, инсценировки снов, стихов. Но и — sic! — образ (усадебного) танцкласса. Именно тут Барышников будет изображать, нет, намечать пластические соответствия поэтическим образам Бродского. Эти фрагменты («вполноги, вполруки») бабочки, фавна, коня и кентавра, актерски выразительные, отнюдь не иллюстративны. Пластические «дивертисменты» — концепт режиссера и актера, саркастически и блаженно преодолевающих «театр/театр». Тот театр, который, как все теперь — после интервью М.Б. в славном журнале Rigas Laiks — знают, не терпел Бродский, чистосердечно считавший, что и пьесы Шекспира — для чтения.
Херманис работает на отчуждении ролей Барышникова и — одновременно — на интимном сближении актера с образом Бродского. М.Б. идет с чемоданчиком к авансцене сквозь выгородку, где жгучий либо приглушенный свет становится метафорой ослепительной или атмосферной танцплощадки. Но также метафорой едва ли не пыточного пространства, где всплывают воспоминания, где оживает не умилительная или нежная память. Старенький чемоданчик кажется вытащенным со знаменитой фотографии И.Б., снятой в аэропорту «Пулково» в день эмиграции, 4 июня 1972 года.
 © Jānis Deinats
© Jānis DeinatsМ.Б. достает из чемодана будильник, синюю книжечку «Конец прекрасной эпохи» (издательства «Ардис»), еще один томик, Jameson в бутылке из Duty Free, отрывает фильтр сигареты, прежде чем закурить. Так он входит в образ И.Б., любившего виски, ломавшего сигарету именно таким способом и полагавшего время, опредмеченное в будильник, главнее пространства. (Ведь «тело, помещенное в пространство, пространством вытесняется».)
М.Б. надевает очки. Открывает книжечку. Читает. «Мой голос, торопливый и неясный, / тебя встревожит горечью напрасной, и над моей ухмылкою усталой / ты склонишься с печалью запоздалой, / и, может быть, забыв про все на свете, в иной стране — прости! — в ином столетье / ты имя вдруг мое шепнешь беззлобно, / и я в могиле торопливо вздрогну» (1962). Первые строчки спектакля как будто вовлекают публику в ностальгический двойной портрет «невозвращенцев», возвращенных Херманисом в Ригу перед мировым турне в ином столетье.
Вместо рубашки под пиджаком М.Б. — жилетка. Не только и не столько аксессуар человека прежнего времени, корреспондирующий старинному павильону, освещенному «гэбистскими», но и преображенными в театральное освещение лампами. Жилетка — деталь артистического образа М.Б в этом спектакле. Парафраз фрагмента костюма для классического балета, с которым Барышников давно завязал. Но в сочетании с современными башмаками, брюками, пиджаком эта жилетка напоминает и о ранней сценической жизни М.Б.
По ходу спектакля распределительная коробка будет искрить и сверкать, ритмизируя действие вспышками внезапного салюта. Он есть следствие замыкания — буквально электрического, но также эпохального, культурного, поколенческого взрыва. После «салюта» сцену обволакивает дым, туман. «Дым отечества». Туман зябких утрат («Я был как все, жил обычной жизнью…»).
М.Б. читает стихи Бродского как читатель! Прозаически. Тут секрет (или бомба) этого антизрелищного спектакля, на который ломятся посетители престижных гала(концертов). Обыденность «скучного» чтения, не пересеченного со знаменитым, побуждающим публику впадать в транс чтением собственных стихов Бродским, составляет еще один контрапункт звуковой партитуры спектакля. Эта партитура обострена и потусторонними, как эхо, отголосками сочинения Джима Уилсона «God's Chorus of Crickets». Запредельные звуки тревожат публику издалека и погружают в беспокойную меланхолию.
Херманис работает на отчуждении ролей Барышникова и — одновременно — на интимном сближении актера с образом Бродского.
«Жизнь — это сумма мелких движений», как то: полистать книжечку, прочитать какие-то строчки, намазать на авансцене тело пеной для бритья перед выходом на большую сцену, дабы вступить в права комедианта, вытереть (после «времени танцора») белую массу, укутаться полотенцем. Сценический образ Барышникова разработан Херманисом просто и настоятельно.
«Портрет трагедии» смонтирован с поздним стихотворением «Клоуны разрушают цирк… под прохудившимся куполом, точно в шкафу, с трапеции / свешивается, извиваясь, фрак / разочарованного иллюзиониста…» Так на «арене» павильона-веранды поддерживаются и оспариваются игровые приспособления комедианта в роли трагедии.
Нейтральность чтения стихов М.Б. удостоверяет его не светскую внесценическую связь с Бродским — и небрежение артистизмом в популистском значении этого слова. Хотя однажды, если не ошибаюсь, он под Бродского все же проинтонирует. Но только затем, чтобы Херманис включил запись И.Б. стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» Такой ожидаемый ход одушевляет перекличку двух голосов, но точнее, укрепляет их различие. Иначе говоря, демонстрирует и физический разрыв читателя/артиста с другом, поэтом.
Наступает время покрыть (затуманить) белой краской стекла сцены на сцене. Доступная — театральная — прозрачность воспоминаний, желание поклониться тени остались уделом сценической площадки. Звонит будильник. М.Б. собирает чемодан с аксессуарами и актера, и поэта. М.Б. выходит из роли и впервые от первого лица информирует, что Бродский в семнадцать лет написал стихотворение «Прощай, / Позабудь / и не обессудь. / А письма сожги, / как мост…»
Однако кульминацией (разумеется, не финальной) этого тихого спектакля, а точнее, столь ранящей рижской встречи стали другие, тоже ранние, строчки: «Сохрани мою тень. Не могу объяснить. Извини. / …Завещаю стене стук шагов посреди тишины. / …Не хочу умирать. Мне не выдержать смерти уму».
 © Jānis Deinats
© Jānis DeinatsХерманис травестирует, опираясь на смелость М.Б., ироническое комедиантство, только отчасти присущее его собственному режиссерскому методу, сценическому образу М.Б. и «лирическому герою» Бродского. Так Херманис совершает жест отрицания театра театральным же способом, вводя по ходу спектакля в заблуждение публику, не зря потратившую время и деньги и повидавшую немолодого М.Б. в отличной форме, которую сам актер отважно представляет в жанре пластического наива. Но порой доводит, как в «Портрете трагедии», свои пластические этюды до физиологической экзальтации. («Прижаться к щеке трагедии! К черным кудрям Горгоны, / к грубой доске с той стороны иконы, / с катящейся по скуле, как на Восток вагоны, / звездою, облюбовавшей околыши и погоны. / Здравствуй, трагедия, одетая не по моде, / с временем, получающим от судьи по морде…»)
Тут мы вступаем в довольно тонкий херманисовский обертон замысла. Эта часть моей речи касается диалога режиссера с «философским моментом» (формулировка Е.Г. Эткинда) поэзии И.Б. — моментом, отточенным в приеме анжамбеман, который составляет «конфликт метрики и синтаксиса» (об этом писал Лев Лосев, друг, поэт и биограф И.Б.).
Херманис, распределивший присутствие актера/танцовщика на территории — на переходе — двух пространств — на авансцене и в застекленном павильоне, — реализовал конфликтную встречу поэзии Бродского с театром. Структура такой режиссуры и есть анжамбеман.
Когда движения М.Б. инсценируют в гротескных очертаниях (или «в лучших проявлениях») «Портрет трагедии», то зрителям приходится столкнуться с ее жесткой телесностью, прежде затверженной в «части речи». Таким образом, динамичный портрет и знакомая речь тоже образуют анжамбеман, для реализации которого М.Б. на авансцене («за кулисами» и на глазах публики) подворачивает брюки, снимает ботинки, пиджак, жилетку и входит в роль трагедии. Ее портрет он материализует в жанре tableau vivant.
Зачем Херманису этот спектакль на смерть поэта, окромя живой натуры Барышникова («Меня упрекали во всем, окромя погоды…» — И.Б.)?
Postumus — тот, кто после, — разберется. Ибо: «Смерть придет, у нее / будут твои глаза» («Натюрморт», 1971).
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202239758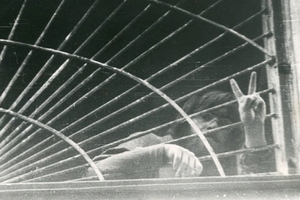 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202255946 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202236032 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 202283774 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202249844 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202236808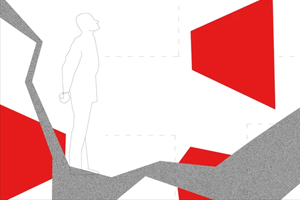 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали