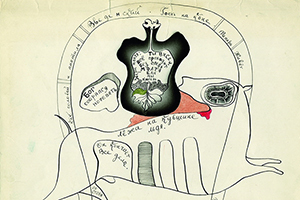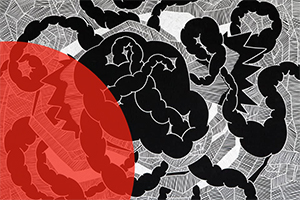В 2010 году в «Новом издательстве» вышли «Разговоры о русском балете» — книга, ставшая событием на рынке нон-фикшен и моментально обретшая статус библиографической редкости. Десять лет спустя Вадим Гаевский и Павел Гершензон готовят второе издание «Разговоров о русском балете», которое будет дополнено диалогами, записанными после 2010 года. Сегодня мы начинаем публикацию фрагментов будущей книги, любезно предоставленных в распоряжение редакции авторами и издательством.
Разговор был записан в марте 2013 года — перед началом фестиваля «Век “Весны священной” — век модернизма», который прошел в Большом театре. Все дополнения в этот разговор были внесены в июле—октябре 2020 года — в переписке, так как личная встреча собеседников не могла состояться в связи с пандемией.
Москва, 14 марта 2013 года — Петербург, Москва, июль—октябрь 2020 года
I.
Вадим Гаевский: В конце марта в Большом театре произойдет грандиозное событие, действительно грандиозное. Будет отмечаться столетие со дня появления на сцене «Весны священной» — причем так, как полагается отмечать такие вещи в живом театре: то есть не будет никакой ученой конференции, может быть, появится какая-то ученая книга, посвященная этой музыке, хореографии и сценической истории, но прежде всего появится новый спектакль. Приедут три балетные компании, которые покажут три легендарные версии этого балета: Вацлава Нижинского — ее покажет Финский национальный балет, Мориса Бежара — прямой наследник легендарного «Балета XX века» Bejart Ballet Lausanne, Пины Бауш — ее Tanztheater из Вупперталя. А четвертая нас ждет здесь: это будет спектакль Большого театра, который только рождается, — еще не легендарный, но уже интригующий. То есть перед нами развернется панорама (а панорама — это совершенно балетное понятие, вспомним «Спящую красавицу») истории балетного театра XX века в своих вершинных достижениях. Правда, это история альтернативного балетного театра: сто лет назад, в 1913 году, когда была поставлена «Весна священная», этот альтернативный театр дал мощный толчок всему балету — и классическому, и неклассическому.
Нынешнее предприятие носит, я бы сказал, почти дягилевский характер: по масштабу, по мятежности некоторой, по риску безусловному — по всему тому, что любил Дягилев, — и, я надеюсь, по результатам. Остается выяснить самое главное, самое интересное: каким образом стало возможно на основании одной музыкальной партитуры и реализации великой, но единственной художественной идеи создание трех шедевров? В истории балета — да и в истории театра — такого не было. Существует одна академическая «Жизель» (не считая неакадемической альтернативной «Жизели» Матса Эка). Существует одна «Спящая красавица» (опять же не считая неакадемической альтернативы Матса Эка). Правда, неугомонный Касьян Голейзовский, боровшийся и с Петипа, и с Фокиным, поставил «Спящую красавицу» в 1930-х годах в Харькове, но она куда-то исчезла, и мы о ней ничего не знаем; великий Баланчин тоже всю жизнь собирался поставить «Спящую красавицу», но от этой идеи все-таки отказался, поставил только вальс. Существует единственный «Петрушка». И хотя Бежар, великий Бежар, поставил своего «Петрушку» (мы даже видели его в Москве с гениальным Хорхе Донном), этот «Петрушка» тоже куда-то исчез. Короче говоря, заложенная в названных партитурах великая художественная идея, или идея поэтическая, пластически осуществлялась один раз, и это становилось окончательным ее претворением. Потом появлялись редакции, как правило, уродовавшие ее. А в случае с «Весной священной» — поразительная вещь — три шедевра, разных, непохожих друг на друга, и все три адекватны музыке. При этом, повторяю, непохожие друг на друга, настроенные даже агрессивно по отношению друг к другу — и при этом по отношению к музыке одинаково органичные. Троекратное воплощение одной и той же художественной идеи в разной форме на протяжении ста лет. Как это объяснить?
Объяснение только одно, и оно содержится в музыке. Сама музыка Стравинского, музыка 1913 года (хоть и начатая раньше), не принадлежит своему времени. Это музыка конца одной художественной и музыкальной эпохи, конца Belle Époque, эпохи модерна, и начала другой — экспрессионизма, который она по своему эмоциональному напряжению вроде бы напоминает. Но на самом деле это не так, потому что музыка экспрессионизма — это музыка конца света, конца мира, а музыка «Весны» — это музыка начала, музыка возрождения, музыка вечного обновления. Это ее основная идея — правда, не единственная. Вот эта музыка постоянно обновляющегося мира требует от балетного театра постоянного обновления его важнейшего элемента — языка. Требование постоянного обновления художественного языка объясняет это странное, вроде бы нелогичное существование партитуры в трех разных пластических вариантах, одинаково ценных и одинаково, повторяю, адекватных. Я имею в виду спектакли Нижинского, Бежара, Пины Бауш. Стало быть, эти три шедевра — не конец, это начало. Так же как эта музыка — начало мира, так и эти три редакции — начало некоторой судьбы. И поскольку каждый раз этот язык должен действительно начинаться, каждый раз нужно будет сочинять новые варианты «Весны». Это первое, что я хотел сказать.
 Валентина Гросс-Гюго (1887–1968). Весна священная. Зарисовка групп и мизансцен. 1913© Музей Виктории и Альберта, Лондон
Валентина Гросс-Гюго (1887–1968). Весна священная. Зарисовка групп и мизансцен. 1913© Музей Виктории и Альберта, ЛондонВторое соображение не столь серьезное, но оно имеет право быть выраженным. Дело в том, что по своему первоначальному замыслу — а он возник в 1910 году, за три года до премьеры, — балет должен был называться иначе. Название «Весна священная» в русском варианте появилось позже. «Le Sacre du printemps» появилось еще позже, это перевод с русского на французский, а не наоборот. Принято думать, что «Весна священная» — это неправильный перевод с французского на русский. Ничего подобного. Это перевод с русского на французский — «Великая / Священная / Весенняя жертва» [1]. Жертва предполагает не только ритуальную жертву, которая показана в спектакле Нижинского и сюжет которой разработал художник Рерих. Принесение в жертву здесь имеет более широкий смысл — принесение в жертву всего балетного настоящего, которое нас окружает. Жертвы прежде всего требует жизнь. Не смерть требует жертв, к чему привыкли в XX веке и что вошло в наше сознание в силу исторического опыта, а именно жизнь требует обязательного принесения жертв, причем в жертву приносится самое лучшее, что есть, наиболее молодое. В спектакле Нижинского в живых остаются старики, Старейшие-Мудрейшие, а уходит из жизни красавица девушка, Избранница. Это и девушка реальная, это и новый балетный театр…
Павел Гершензон: «Новый» — это какой, «дягилевский» или уже принесенный Дягилевым в жертву «императорский»?
Гаевский: Ни то ни другое, а нечто постдягилевское. Оно и в самом деле пришло, причем в труппе самого Дягилева, когда в 1928 году Баланчин поставил балет «Аполлон Мусагет» на музыку того же Стравинского. Но «Аполлон» Стравинского почти так же далек от «Весны священной» Стравинского, как Баланчин от Нижинского. И вот тут самое важное, о чем ни в коем случае нельзя забывать, — полная и драматическая смена исторического времени. 1913 год — последний предвоенный год, а 1928-й — это год, в котором память о войне еще никуда не ушла, ситуация принесения в жертву молодых еще имеет конкретный смысл, весьма ужасный, и, следовательно, любая мифология принесения в жертву остается и неуместной, и невозможной. Недаром, когда в 1920 году, через два года после войны и через семь с половиной лет после премьеры тринадцатого года, упрямый Дягилев попытался с помощью совсем молодого Мясина воскресить спектакль Нижинского, ничего не получилось — бывшие участники утверждали, что все забыли. На самом деле не позволили себе вспоминать: красивые мифы лишь оскорбляли нормальную человеческую память…
Итак, это балет действительно о жертве — защищающий идею жертвы, провозглашающий идею жертвы, воспевающий эту идею и осуществляющий ее. И заставляющий осуществить эту жертву во все последующие времена. Вот почему мы имеем три выдающихся спектакля и сейчас ждем четвертого, предпосылкой которого является принесение в жертву всего, что есть сейчас в Большом театре, — отвержено должно быть все, что здесь есть. Но без покушений, никаких злых и агрессивных намерений [2]. Вот, собственно, что такое «Весна священная», как я себе представляю, и чем она интересна. Эта великая музыка каждый раз обещает нам что-то неожиданное и замечательное, заставляет ждать чего-то неожиданного, противостоящего чему-то предыдущему, хотя бы и замечательному.
Гершензон: У нас с вами давний опыт разговоров-игр, в которых у каждого своя роль: вы — добрый и мудрый следователь, я — депрессивный человеконенавистник. Так что предлагаю продолжить игру… Несколько месяцев назад я посетил первый симфонический концерт, который давался на Исторической сцене Большого театра после реконструкции. Вначале был Чайковский, через антракт — Стравинский с «Весной священной». Я внимательно следил за теми, кто заполнил зал, и понял, что 95 процентов публики Большого театра слышали «Весну» в первый раз, а 85 процентов слышат ее в последний. Сидящий рядом со мной плотный молодой господин с гипертоническим лицом и в костюме на заказ (типичная московская номенклатурная единица из кадрового резерва — будущий «управленец») сообщил обязательной в таких случаях «спутнице» с изуродованными губами, параличом лицевых нервов (результаты варварской «пластики») и внушительным бюстом, что сейчас будет «современная музыка», — бюст вздрогнул. До драки во время исполнения «Весны» дело не дошло, но и особого успеха тоже не наблюдалось: публика протокольно поаплодировала между частями произведения и после (любая остановка оркестра, даже пауза внутри такта, служит нашей публике, плохо ориентирующейся на местности, сигналом для аплодисментов). Уверен, что многие, разглядывая по ходу исполнения партитуры люстру Большого театра, думали о сумбуре вместо музыки… А вчера я был в Центре Мейерхольда. Это не совсем театр, это «культурное пространство» — так сегодня называют постсоветский извод советского Дома культуры с кружками по интересам и обязательным «народным театром». Сюда ходит другая публика: правильно одетые юноше-девушки с лицами, выбеленными излучением смартфонов, тощими запястьями и татуированной кожей, ожидающей свою Ильзе Кох. Это другой антропологический тип. В смысле эстетической наивности они мало отличаются от кондовой публики Большого театра, но, естественно, представляют собой следующее поколение гаджетов: у них есть особое приспособление — нюх на «события» [3]. Короче говоря, в Центре Мейерхольда камерный балет «Москва» показывал «Свадебку» и «Весну священную» Стравинского. «Свадебка» — произведение сложное, никому после шедевра Нижинской — Гончаровой категорически не удававшееся. Тот самый случай, о котором вы только что сказали: великая художественная идея, заложенная в партитуре, сразу находит окончательное пластическое решение, и хореографу, который ставил «Свадебку» в камерном балете «Москва» (забыл имя: француз с нефранцузской фамилией), я посоветовал бы этого не делать, все равно не получится; не получилось. А вот «Весну священную» — пожалуйста. Конечно, в балете «Москва» вышла такая Пина-Бауш-для-бедных — ну и бог с ним, потому что со второй части смотришь не отрываясь, игнорируя неловкие цитаты из великих предшественников и скромный профессиональный ресурс танцоров «Москвы». Что производит столь сильный эффект? Пляшущие — не танцующие, а именно пляшущие — человечки. Массовая, или, как говорили раньше, экстатическая, пляска. Она всегда производит гипнотический эффект, каким бы скудным ни было ее хореографическое содержание. Боюсь ошибиться, но, мне кажется, «Весна» была первой великой пляской надвигающегося XX века [4]. Это не оффенбаховский канкан в коде Теней «Баядерки», не балетная оргия Второй империи «Вальпургиева ночь», которую Гуно начинает сверхэлегантным французским вальсом, и даже не Поганый пляс «Жар-птицы», который, конечно же, еще из XIX века, из гаремных плясок «Шехеразады». Кажется, что в «Весне священной» Игорь Стравинский каким-то титаническим усилием завел невиданный музыкальный автомат, который к финальной Пляске Избранницы действует уже сам по себе, благодаря силе инерции. Это уже не Стравинский, не 1913 год, не Belle Époque, не экспрессионизм — это нечто беспрецедентное… Есть ли что-нибудь подобное, так сказать, конгениальное «Весне»? «Тристан»? Там ведь совершенно невозможно понять, какому времени принадлежит музыка дуэта во втором акте…
Гаевский: Правильно, но есть и моцартовский «Дон Жуан», а он когда написан?
Гершензон: Вернусь к публике Большого театра — да и к публике Центра Мейерхольда. Почему мы вообще заговорили об этих несчастных людях? Потому, как заметил вездесущий американец Тарускин, что главным протагонистом этого главного художественного не произведения, но «события» XX века была именно публика [5] — парижская публика 1913 года, которая сначала освистала, а через год воспела. Так вот, московская публика 2013 года не свищет и не воспевает — она бродит где-то мимо, ничего не слыша и мало что понимая, и когда наркотически раскачивается в такт на скамейках ЦИМа, и когда тупо сидит в зале Большого театра, крепко вцепившись в кресло номенклатурной задницей. Совершенно непонятно, из какого исторического и культурного времени всплыли все эти посетители Главного Театра Страны… Понимаете, мы говорим о произведении, которое сегодня может насвистеть любой американский школьник, оно ему знакомо с мультипликационного диснеевского детства, со времен «Фантазии». Стравинский — композитор, который с американцами всегда [6]. А кто с нами? Где мы? Мы потерялись?
Гаевский: Мы очутились в музыкальной ситуации «до 1913 года», к сожалению. Наше музыкальное сознание, сознание массовой публики, остановилось, замерло и даже пошло в обратном направлении. Наш массовый слушатель даже Глинку не очень воспринимает, не то что Стравинского. Он слышал, что Глинка — наше все…
Гершензон: Его принялись было внедрять в массовое сознание под видом государственного гимна, но передумали…
Гаевский: Вот именно — от греха подальше… Так что Глинку никто вам не насвистит. Хотя, когда Митя Черняков поставил Глинку не так, как хотелось бы, выяснилось, что у Глинки есть защитники, что меня очень порадовало. Черняков как раз этого не ожидал, он думал, все сойдет, потому что ну кому этот Глинка нужен… Сейчас предстоит самое интересное: пройдет ли Стравинский сто лет спустя — это будет некий эксперимент. Хотя помимо Стравинского пройти должны еще Бежар и Бауш. Нижинский в этом смысле как автор спрятан за музыкой и, возможно, не произведет на нас того впечатления, какое он производил в тринадцатом году на тех, кто был в Театре Елисейских Полей. Он скромно поставил свой скромный спектакль, по нынешним временам там нет ничего нескромного, ну, может быть, кроме Пляски Избранницы… На премьере, как мы знаем, сам спектакль не очень-то и заметили…
Гершензон: Простите, но о скромности Нижинского в «Весне священной» я бы говорил осторожнее. И вообще: о какой именно скромности вы говорите — о той, когда некто X скромно несет свой большой талант, или вы имеете в виду некоторую эротическую скромность-невинность? Но в таком случае какая скромность, где она? Пусть даже танцовщики у Рериха — Нижинского плотно перепеленаты с головы до ног.
Отступление 2020 года
Нижинский vs Бежар
Гершензон: «Весна» Нижинского гораздо круче даже фетишистского акта в финале его же «Послеполуденного отдыха фавна» — там мастурбировал хотя бы один Нижинский. В «Весне» он заставил — выражаясь, конечно, фигурально — публично мастурбировать сразу всех артистов, мужчин и женщин. Я уверен, что в кордебалете дягилевской труппы нашлись циники, которые подобную хореографию именно так и называли, и я уверен, что публика Театра Елисейских Полей именно так это и восприняла. Люди озверели не только от страшной духоты в зале (неработающая вентиляция свежевыстроенного театра) и вообще аномальной жары в городе Париже 29 мая 1913 года (есть такое элегантное объяснение скандала на премьере) [7], не только от того, чтó им подсунули вместо музыки, но и от того, что они увидели на сцене нечто такóе, что нарушало все эстетические нормы вместе с нормами этическими (Андрей Левинсон понял это сразу после премьеры) [8]. Эротические фантазмы фокинской «Шехеразады» — детский лепет, всего лишь бесконечная прелюдия, обещание «чего-то такого», они стилизованы, границ узаконенной декадентской эстетики не пересекают, а чем там конкретно занимался Фавн Нижинского, ерзая в шифоновых трофейных тряпках, — это так до конца и осталось неясно. Но в «Весне» — здесь наконец начались собственно тупые фрикции…
Гаевский: Что вы так разволновались, я всего-то хотел сказать, что рядом с Бежаром, рядом с Пиной Нижинский выглядит, конечно, скромно…
Гершензон: Ну что уж там нескромного есть в Бежаре для тертой публики второй половины XX века? [9] Нижинский еще и неизмеримо сложнее — как хореограф. Бежара уж точно сложнее. И в первую очередь по степени чувствительности к партитуре… Недавно для какой-то надобности я пересмотрел все доступные видеоверсии «Весны», в частности, знаменитую студийную съемку бежаровского спектакля, срежиссированную им самим в 1966 году, с нордической Сиреной Таней Бари и теряющимся в недрах кордебалета совсем еще юным Хорхе Донном (но операторам уже заботливо подсказали, чье лицо надо выхватывать из толпы [10]). Меня в очередной раз удивило и задело то, с чем я сталкиваюсь каждый раз, когда начинаю смотреть бежаровскую «Весну», и о чем тут же забываю, попадая в мощное энергетическое поле этого выдающегося Grand ballet (впрочем, в финале это «то» снова громко заявляет о себе)… Попробую сформулировать.
Бежар принимается за знаменитую партитуру, пусть на тот момент имеющую дурную славу несценичной, даже неисполняемой (Бернстайн сыграет свою «Весну», кажется, в один год с Бежаром); он слушает «Весну», «Весну» и только «Весну», он гордится тем, что протер до основания три или четыре пластинки, он думает о «Весне» с закрытыми глазами, он одурманивает себя музыкой Стравинского, слушая ее на предельной громкости, чтобы она расплющила его между своими молотом и наковальней, мечтает поставить этот балет в каких-то пещерах Ласко и прочее и прочее — Морис Бежар, безусловно, самый талантливый литератор из хореографов [11]. Он придумывает собственный сценарий, освобожденный, как и полагается в 1959 году, от декоративности, этнографии, истории, религии — от всего; он строит сценарий на радикальном расчленении «мужского» и «женского» (Бежару подфартило: в 1959 году Роберт Столлер еще не написал «Sex and Gender», и проблема так называемого гендера еще не стала предметом спекуляций) [12], он делает «мужское» и «женское» персонажами виртуозной, но внятной игры с пространством и временем (это лучшее в балете) — он вообще демонстрирует в «Весне» все признаки гениального артиста (в смысле artist), причем не будущего гения, а уже состоявшегося…
 «Весна священная». Хореография Мориса Бежара. 1959. Ballet du XXe siècle© Roger Pic / Национальная библиотека Франции
«Весна священная». Хореография Мориса Бежара. 1959. Ballet du XXe siècle© Roger Pic / Национальная библиотека ФранцииНо вот — то самое место, с которого, как считается, начался новый мир: первые такты «Весенних гаданий» (после пиццикато скрипок, роковая цифра 13 в партитуре). Это, выражаясь пафосно, момент художественной истины, а говоря грубо — проверка на вшивость, возможно, самый знаменитый из камней преткновения, когда-либо подброшенных музыкой на пути хореографа. И здесь парадокс: один из важнейших, как сейчас модно говорить, акторов (на устаревшем театральном языке это просто «действующее лицо»), итак, один из важнейших акторов высокого модернизма второй половины XX века, апологет музыкального авангарда, хореограф, сочинивший первый из триады своих выдающихся балетов («Симфония для одинокого человека» — «Весна священная» — «Болеро») в сотрудничестве с пионерами musique concrète, придумавший в своей «Весне» массу потрясающих и даже гениальных вещей, — Бежар неожиданно ускользает от ближнего боя, от лобового столкновения с партитурой Стравинского — он как бы пролетает над ней, видит ее с высоты птичьего полета. Бежар воспринимает в партитуре только ее общий строй, ее экспрессию, ее метр (не хочу произносить здесь «крупный помол», но придется произнести другое, обидное для любого хореографа, — «слухач») и чудесным образом остается глух и нечувствителен — или демонстративно не замечает, ведь это невозможно не услышать! — к ее l'esprit nouveau, к тому, что Пьер Булез называл «ритмической жизнью некоторых разделов “Весны”» [13]. В подражание ученым музыковедам нужно было бы говорить так: Бежар одурманивает себя пульсом, ритмическим остинато, но игнорирует возникающие на фоне этой пульсации знаменитые нерегулярные акценты [14]. От себя продолжу: с некоторой (французской?) легковесностью Бежар игнорирует именно то, во что уперся, обо что споткнулся и сквозь что упорно и упрямо продирался русский поляк Нижинский. Или, если хотите, сквозь что вынудили продираться Нижинского…
 Морис Бежар и Мишель Сеньоре в балете «Симфония для одинокого человека». 1955© Roger-Viollet
Морис Бежар и Мишель Сеньоре в балете «Симфония для одинокого человека». 1955© Roger-ViolletОтдельный вопрос, почему Бежар игнорирует эти знаменитые каверзы партитуры «Весны». Возможно, в силу «одурманенности» (метр усыпляет, нерегулярный ритм требует особой концентрации внимания), возможно — в силу «другого» целеполагания (не «как», а «про что»); конечно, в силу неизменно возникающей на старте каждого большого художественного пути дилеммы «этическое vs эстетическое», которая разрешается Бежаром однозначно: «новое в танце — проблема уже не эстетическая» (что значит: бери больше — кидай дальше), но я бы поправил — «еще не эстетическая», — все так. Но если копнуть глубже — возможно (об этом даже страшно говорить), по причине отсутствия профессионального инструмента для решения подобной задачи. Попытался — с ходу не вышло, ну и замылил, замотал (справедливости ради, в случае Бежара и его «Весны» это было единственно возможным решением: в конкретной ситуации 1959 года, ситуации отчаянного цейтнота, любая рефлексия дебютанта была если не смерти, то концу карьеры подобна)… Вот здесь и должен начаться большой разговор о Бежаре — гениальном l'Homme de théâtre, который так и не стал великим хореографом. Конкретнее — разговор о существе хореографического ремесла и его дефиците, в чем Бежар никогда не признавался, но что по прошествии времени все больше и больше бросается в глаза. И, между прочим, здоровую зависть к гениальному мастерству Бежар скрыть не мог: «Если Стравинский, поносивший всех своих хореографов, восхищался Баланчиным, то только потому, что Баланчин — сам музыкант. Баланчин способен дирижировать оркестром, Баланчин может взять сложную оркестровую партитуру и тут же, на глазах, шикануть, сыграв на рояле ее переложение. Это чудесный дар…» [15] — увы, этого дара у Бежара не было. Но это не только дар, это еще и ремесленный навык, métier, полученный Баланчиным не только в балетной школе, но и в Петроградской консерватории. А чему и где учился Бежар — в частной студии мадам Рузанн? Между прочим, за восемнадцать лет до бежаровской «Весны», в балете, сочиненном на баховский двойной скрипичный концерт [16], Баланчин поступает как раз наоборот: добавляет нерегулярные акценты туда, где они не предполагаются нотным текстом (поверх остинато в третьей части), добавляет, виртуозно и остроумно пользуясь чисто хореографическим инструментом — элементарными школьными port de bras. Такой вот элегантный оммаж «Весне», главному произведению своего главного композитора, к коему (произведению), впрочем, Баланчин и в мыслях никогда не подступал… XX век подарил нам целую обойму выдающихся l'Homme de théâtre и всего двух-трех великих хореографов.
Гаевский: С этим утверждением я никак не могу согласиться. Как это так — не стал великим хореографом? Всего три великих, выдающихся балета — «Весна», «Болеро» и «Симфония для одинокого человека». А где же «Греческая сюита», где «Веберн. Опус 5», маленький шедевр на музыку венского авангардиста, незабываемо станцованный парижанкой Жаклин Райе, самой печальной этуалью Opéra? А индусские фантазии? А хотя бы всего три шедевра — разве этого мало? Но, как я прочитал, вы и главный балет Бежара «Весну священную» считаете музыкально дефектным и чуть ли не музыкально неграмотным. Стравинского, насколько я знаю, балет привел в восторг, а вы считаете его музыкально неполноценным. Дорогой мой, наша с вами профессия — балетоведение и балетная художественная критика, вы же рассуждаете как музыковед. Оставим музыковедам их музыковедческие дела и займемся своими, балетными.
Гершензон: Сказано энергично, хотя немного странно слышать это от вас — того, кто давал краткое, но емкое определение поэтики маньеризма, сравнивал бетховенский симфонизм с брамсовским, подробно разбирал устройство юношеского сочинения Бизе и так далее и так далее, не говоря о том, сколько и как вы писали о поэзии, прозе, живописи, даже архитектуре, — мы всегда ценили в вас именно редкое умение выйти за границы любого узколобого ведения… Попробую ответить: я такой же музыковед, как и балетовед — с нулевой репутацией у тех и у других. Я человек со стороны, профессиональный дилетант (имеется некоторое музыкальное образование, некоторое архитектурное, но никакого балетного), и я всегда теряюсь, когда слышу: «А вы, собственно, кто такой?» В качестве ответа пользуюсь, между прочим, вашей формулировкой: «Да так, кое-кто…» Этот статус не-пойми-кого дает мне право говорить все, что хочу, нести любую ахинею, которую не позволит себе ни истинный балетовед, ни тем более густопсовый музыковед (например, доверяться мнению Стравинского относительно балетов, сочиненных на его музыку, можно, но не всегда). Тем не менее вот уже двадцать пять лет вы соглашаетесь разговаривать со мной, что я очень ценю, потому что вы для меня — единственный собеседник. Но, судя по всему, и ваше долготерпение заканчивается, так что постараюсь быть аккуратным.
Вы возмутились тому, чтó я сказал о Бежаре. Соглашусь, что для репутации великого хореографа трех великих балетов достаточно; у Нижинского было два, у сестры Брониславы — один. Вы вспомнили московские, 1977 года, гастроли Парижской оперы, бежаровского Веберна и печальную Жаклин Райе — сегодня все это стало мифом, а мифы лучше не тревожить, их опасно развоплощать, о чем, описывая возобновление «Весны священной» в 1920 году, вы и сказали в начале нашего разговора. Когда-то я с жадностью смотрел все доступные мне балетные изводы «Весны», включая новейшие, потом, что-то поняв, сконцентрировался на трех — Нижинского, Бежара, Бауш — и, наконец, вообще перестал смотреть «Весну» — стал ее слушать, из балетомана превратился в меломана (музыка «Весны» оказалась содержательнее самых великих ее пластических воплощений). Я как бы мифологизировал «Весну». Ну а потом снова посмотрел балет — Бежара. Вот тогда все это и вылезло на поверхность…
И здесь я позволю себе цитату из вашего «Дивертисмента»: «Спору нет, как художник, как личность, как явление французского театра 40-х — 50-х годов Иветт Шовире крупнее. Она преобразила традиционный исполнительский стиль. Блеск виртуозности она дополнила драматической патетикой жеста. Она внесла в балет интеллектуальную проблематику середины века. <…> Она очистила сам воздух Гранд-опера, годами не проветривавшийся воздух. Заслуг Шовире много, не перечесть, но Лиан Дейде танцевала лучше…» — я знаю этот пассаж наизусть. Так вот, заслуг Бежара перед европейской и даже мировой культурой, не говоря уж о балете, не счесть — но в начале своей карьеры он споткнулся о ритмические каверзы партитуры «Весны». И, споткнувшись, не заинтересовался ими, они не стали для него вызовом, не побудили к единственно возможному профессиональному действию — сочинению новых связок движений; они, эти каверзы, казались ничтожными рядом с величием гуманистического проекта, который Бежар намеревался реализовать с помощью балета на старте своей блистательной и длинной карьеры. Но никакое величие замыслов, культурных миссий, этических обязательств и тому подобного не в состоянии скрыть негодность — скажу мягче, некоторую примитивность — инструмента их реализации. И если с самого начала не осознать этого, в конце блистательной и длинной карьеры (когда в общем-то уже ясно, чтó своим творчеством хотел сказать автор миру, и основной интерес сводится к тому, кáк он это говорит) ты будешь бороться за экологию, громыхая по сцене связками пустых консервных банок, и чтить память погибших от СПИДа, привязывая (буквально!) к ногам своих танцоров телевизионные ящики, с экранов которых жертвы темных страстей читают печальные предсмертные монологи. Это называется поздним модернизмом большого артиста, пережившего свое художественное время… И еще. В вашем «Дивертисменте» есть очень важное замечание: о ритмической неадекватности хореографов и артистов дягилевской антрепризы и непреодолимых трудностях их адаптации к новым ритмическим структурам XX века… Как хотите, но Нижинский в «Весне» 1913 года не более архаичен, чем Бежар в «Весне» 1959-го, тем более что за год до «Весны, в 1912 году, Нижинский уже совершил гениальную попытку ритмической адаптации — в «Послеполуденном отдыхе фавна». Вот, собственно, то, что я и хотел сказать, не более…
Нам сегодня это понять сложно, нужно сосредоточиться и представить себе почти невозможное: у Нижинского (в отличие от Бежара) нет грампластинок, Нижинский имеет дело с музыкой, которую никто не слышал, которую на репетициях не могли толком сыграть ни концертмейстер, ни композитор [17], — Нижинский имеет дело с музыкой, которой еще нет. За Игоря Федоровича переживать не приходится, но можно только догадываться, что творилось в процессе постановки в голове балетного артиста, вдруг ставшего балетмейстером, когда и если он пытался вообразить оркестровое звучание партитуры [18]. Под крики и ругань Стравинского и Штеймана двадцатитрехлетний Нижинский отчаянно бросается на амбразуру, под пулеметные очереди никем и никогда не слыханных ритмов — вот кто реальная священная жертва «Весны».
 Вайно Аалтонен (1894–1966). Гранитный мальчик I. 1917© Музей Атенеум, Хельсинки
Вайно Аалтонен (1894–1966). Гранитный мальчик I. 1917© Музей Атенеум, ХельсинкиВы начали наш разговор с того, что «Весна» требует юной жертвы, а я когда-то говорил, что с «Весны» должна начинаться карьера молодого хореографа, и, если свести вместе обе наши идеи, получится, что «Весной» карьера юного хореографа должна не только начаться, но и закончиться, жертвенно оборваться — как это, собственно, и произошло в случае с Нижинским, что еще раз доказывает, что его «Весна» — настоящая, истинная.
Так что наш с вами важнейший человек, Андрей Яковлевич Левинсон, был не совсем справедлив, когда через четыре года после парижской премьеры принялся методично, да к тому же в высокомерно-снисходительном тоне растирать Нижинского в порошок (dlatego Polacy nienawidzili Żydów: они считали, что имеют больше прав на подобный тон) — и именно за то, за что мы сегодня превозносим его «Весну» [19]: «И вот всюду, где хаотические метания одержимых весной и опьяненных божеством дикарей обращались в нудный показательный урок ритмической гимнастики, где шаманы и бесноватые начинали “ходить ноты” и “делать синкопы”, — там начинались психологический провал всего замысла и самое законное, самое комическое недоумение зрителя. Наивная кустарность приема не могла не оттолкнуть его» [20].
Вот он, тот самый пассаж, — «наивная кустарность приема» — сам по себе виртуозный, емкий, а оттого — вдвойне обидный. Это слишком сильный выпад, и, между прочим, «кустарь» происходит от старонемецкого Kunster, Kunstener, что означает «знаток искусства и ремесла». Выпускник петербургского Императорского балетного училища Нижинский и был выдающимся, чуть ли не лучшим кустарем, знатоком балетного ремесла — танцевального ремесла, в нем-то он точно не был наивен. Что касается хореографического ремесла (как и таланта) Нижинского — это всегда было предметом дискуссии, в которой высказался, кажется, весь XX век, начиная от бесконечных менторских сомнений-разочарований-очарований Стравинского, снисходительности вперемежку с черной завистью Фокина и заканчивая безудержной апологией фанатов типа Ноймайера. Меня в этом потоке больше всего убеждает пассаж сестры Брониславы: «Во время ранних репетиций [«Весны священной»] в Монте-Карло Нижинский демонстрировал движение на 5/4. Взлетая в огромном прыжке, он считал на 5 (3+2). На счет “один” высоко в воздухе он сгибал одно колено и поднимал правую руку над головой, на счет “два” наклонял корпус влево, на счет “три” — вправо, затем на счет “один” снова выпрямлял тело и после этого приземлялся, опуская руку на счет “два”. Таким образом он графически отобразил каждую из нот этого такта, счет которого был нечетным…» [21] — вот где виртуозное ремесло танцовщика Нижинского помогает реализоваться его хореографическому дару.
«Наивная кустарность приема» — то, что всегда сопровождает так называемые произведения прорыва [22]. Можно сказать иначе: «наивность — кустарность — прием» — вот триада обязательных компонентов художественного прорыва. Или: детская наивность вкупе с младенческим отсутствием чувства опасности, примитивность инструментария (первые компьютеры Apple собраны на коленке в гараже Стива Джобса), восторг от найденного приема изготовления «новизны» и доведение его до абсурда (получасовой стук палкой по цинковому ведру через полчаса становится искусством, равно как и героическое выдерживание паузы в течение четырех минут и тридцати трех секунд).
Балет Нижинского более адекватен партитуре Стравинского, чем все его знаменитые младшие собратья. Но он адекватен ей по-детски, наивно, доверчиво, дословно, буквально, не очень умело, в первый раз, торопливо и стыдливо оглядываясь. И это действительно было в первый раз. Нижинского, как слепого котенка, сунули мордочкой в блюдце с молоком: отвезли к Жак-Далькрозу в Хеллерау, сказали тоном, не терпящим возражений, что вот это и есть то самое — самое новое, крутое, истинное, настоящее — и надо делать так и никак иначе [23]. Нижинский страшно испугался, но поверил, доверился — и постарался делать как просили. Очень старался, сделал как смог — и совершил художественный подвиг: впервые в театральной истории столкнул со «старой» балетной сценой то, что всегда было параллельным миром, то, что в начале нашего разговора вы назвали «альтернативным театром», что существовало где-то там, что вызывало у «балета» недоумение, раздражение, восторг, зависть (Фокин — Дункан) и что, между прочим, сами его создатели (тот же Далькроз) никогда, в общем-то, искусством не считали. Все мы помним первые кадры «Меланхолии» Ларса фон Триера: там две планеты движутся по роковой траектории на неотвратимую встречу друг с другом, и скорость сближения планет фон Триер подчиняет вагнеровским темпам. Скорость, а главное — ритм сближения «балета» и «небалета» в «Весне» задает Стравинский, но реализует Нижинский — масштаб катастрофы остается вселенским.
В мае тринадцатого года было короткое замыкание, тотальный блэкаут — скандал, законченным образом которого стала съехавшая набок бриллиантовая диадема престарелой прустовской графини де Пуртале. Вообще-то не только прустовской, но и нашей, пушкинской — данной нам на все времена роковой Графини-предвещательницы. Нижинский довольно скоро расплатился за все эти jeux et danses, игры и пляски. Но эта история — еще и образцово-показательный классический урок насилия: художественного насилия, в истории не первого и не последнего, — или художественного харассмента, как кому больше нравится, где великим и даже гениальным абьюзером выступает Сергей Павлович Дягилев (интересно, кто из его «мальчиков» сегодня захотел бы присоединиться к #MeToo)…
Так что — вернусь к Левинсону — обвинять Нижинского в поспешности, незрелости и прочая («злейшая беда нашей художественной культуры — избыточное легкомыслие, симплизм, стремление к вульгаризации, к быстрому и суммарному усвоению поверхностных впечатлений») [24] — то же самое, что обвинять Стравинского в том, что под давлением выскочки и проходимца Крафта он увлекся додекафонной техникой. Конечно, Стравинскому на момент сочинения «Септета» был семьдесят один год, додекафонной технике — больше тридцати лет, а Нижинскому в тринадцатом году — всего двадцать три, но выпускник петербургской балетной школы Вацлав Нижинский сам представляет собой, точнее сказать, является суммой усвоенных впечатлений — и отнюдь не поверхностных. За Нижинским тоже кое-что есть — весь предыдущий балетный театр. Нижинский, конечно, не Стравинский, но друг друга они стóят, во всяком случае, в «Весне» они равны друг другу.
Гаевский: Еще раз прерву вас, потому что не считаю адекватное следование музыке, вполне естественное для бессюжетных балетов, целью, а тем более высоким достижением в случае балетов сюжетных. Тут и там у хореографии и у музыки разная логика и различные приемы. Нижинского, по-видимому, мучила недостижимость фактически недостижимой цели, а Бежар, хотя и без конца слушавший пластинку, начав работу, репетируя, сумел освободиться от власти партитуры. Вот этой энергией высвобождения и захватывала «Весна» Бежара. Высвобождение от какой-то усыпляющей силы и становится ее сюжетом.
Гершензон: Склоняю голову. Прекрасное завершение затянувшегося отступления.
 Оноре Домье (1808–1879). Финальный галоп в Опере. 1840© Roger-Viollet
Оноре Домье (1808–1879). Финальный галоп в Опере. 1840© Roger-Viollet* * *
Гаевский: Итак, сейчас будет вторая, пятьдесят лет спустя после его приезда в СССР в 1962 году, встреча Стравинского с русской, точнее, московской аудиторией. Безумно интересно: доросли ли мы до Стравинского? Вопрос стоит так и именно так, что, конечно, очень обидно для нас. Здесь есть, безусловно, группа музыкально продвинутых молодых людей, которые возвели Стравинского в культ, которым Стравинский заслонил и Прокофьева, и Шостаковича; Прокофьева и Шостаковича для них не существует, их нет, потому что Стравинский — сам довольно презрительно не обративший внимания на Шостаковича и обративший полувнимание на Прокофьева… как бы сказать… велел не обращать на них внимания. Придут ли сюда эти любители Стравинского, я не знаю. Вообще-то сюда должны прийти все-таки любители театра — даже не балета, а именно театра, — и то, как они будут смотреть Нижинского, Бежара и вообще все, что им покажут, — вот это и представляет интерес. Я уже говорил, что Дягилев любил риск и что сегодня вы идете на рискованное предприятие. У меня нет уверенности, что возникнет контакт, нет уверенности, что победит Стравинский. Бежар победит, это очевидно. Он вообще человек, пришедший побеждать, он умел это делать, он очень быстро овладел способами побеждать любую аудиторию; Пина — тоже. А вот одержит ли свою, очень важную для него, победу Игорь Федорович (если он за нами следит оттуда), пусть не в своем родном городе, Петербурге, но в своем отечестве, — вот что самое интересное.
Гершензон: По поводу отечества и Петербурга: отметить столетие «Весны» я предложил дирекции Большого театра летом 2009 года, и с тех пор меня не покидает ощущение, что проект не на своем месте [25] — тот самый гений места что-то такое нашептывает… Стравинский, Дягилев, Нижинский — все они прямо или косвенно связаны с Мариинским театром, пусть даже Дягилева оттуда выгнали (точнее, выгнали из дирекции Императорских театров, что одно и то же), Нижинский ушел сам (но всем было выгодно сделать вид, что выгнали), а Стравинского не очень-то и звали; все они, безусловно, связаны с Петербургом, где, впрочем, к тринадцатому году они уже бывали эпизодически; все они, конечно, связаны с авангардом — с посконно-русским и с тем, которого нахватались, вырвавшись в Европу… А сегодняшние Москва и Большой театр — они как-то сбоку — и от этих людей, и от их идей, от авангарда в первую очередь… Ну при чем здесь Дягилев, Нижинский, Стравинский — они если и бывали в Большом, то заочно, в качестве как бы шефской помощи (Бенуа в 1921 году сделал для Большого театра вариант «Петрушки», едва ли не лучший из бесчисленных)… Но если думать дальше, сегодняшний Большой вообще парит в какой-то космической невесомости — вне исторической и культурной гравитации. Сталинский золотой век для него очевидно закончился, дороги назад нет: недавно я в очередной раз слушал запись «Садко» 1949 года с маэстро Головановым и певцами Нэлеппом, Давыдовой, Шумской, Рейзеном, Козловским, Лисицианом. Сегодня подобный художественный уровень — абсолютная утопия, он недостижим. Все попытки втащить Большой в high modernity методично проваливаются: Баланчин, Форсайт, Эк, Макгрегор, кто угодно — все отторгается на клеточном уровне артистами, публикой, самим воздухом, разлитым сегодня в этом лучшем (по версии интернет-журнала «Москвич Mag») городе Земли. Я не говорю, что этот воздух какой-то плохой, просто он другой: здесь пахнет морем денег, здесь можно продавать, покупать, тратить, есть, пить, курить, употреблять, «потреблять» и еще раз тратить, но сложно что-то путное произвести, скреативить — во всяком случае, в знакомом мне музыкальном театре [26]. Это касается не только балета. Когда смотришь в Большом лицензионную «Баттерфляй» Уилсона, испытываешь чувство неловкости (эффект дамского седла на корове): я же вижу и слышу, что в бледном дезинфицированном огне галогенов и светодиодов поют, страдают, застывая в пафосных позах, накрашенные à la Yamamoto местные, таганско-краснопресненские, серпуховско-тимирязевские, выхинские (как говорил приятель-архитектор, русский ампир — это античный портик в крапиве, уральский постмодернизм — итальянский мрамор в грязи). «Воццек», пусть и сработанный своими (ну что в зале, изукрашенном плафоном Церетели, делает Альбан Берг…), татуированные феминистскими прелестями, исторически-трансформированные Перселл — Гендель — все это, прекрасное по отдельности, взятое в совокупности, становится каким-то полулегальным трейлерным парком на городских помойках — приехал, вдунул-трахнул, уехал… И лишь черняковский «Онегин» чувствует себя здесь в своей тарелке. Вся хитрость в том, что за обеденным столом его спектакля собрались обитатели этого милого провинциального московского театрального дома: фриковатые, смешные, неловкие, нелепые, но свои, родные, — родственнички. Черняковский «Онегин» — он про них, для них, он им посвящен, их в этом спектакле любят, ими любуются, их здесь не заставляют изображать «настоящий европейский театр» (все равно ведь не получится) — потому это так замечательно и работает… Возможно, мои сомнения надуманны: в конце концов, широким массам все равно, где смотреть «Баядерку» — на Крюковом канале или на Унтер-ден-Линден, где справлять столетие «Весны» — под плафоном Мориса Дени или Зураба Церетели, и, несмотря на то что лет десять назад я уже задавал вам этот вопрос, а себе я его задаю постоянно и каждый раз в конкретных обстоятельствах отвечаю на него по-разному, задам его еще раз — вы верите даже не в гений места, а в адекватность места?
Гаевский: Отвечу кратко. В случае с «Весной священной» Большой театр, по-видимому, руководствуется чувством долга. В чем оно проявляется? Он обязан вернуть себе имя первого, а не второго. А знамя Стравинского — хорошее знамя. Тем более что Мариинка в этом смысле пошла другим путем.
Гершензон: Мариинский театр показал «Весну» Нижинского десять лет назад, в 2003 году, к ее девяностолетию, показал вместе со «Свадебкой», главным балетом его сестры Брониславы. Мы тогда назвали эту акцию «возвращением», считали, что возвращаем на родину незаслуженно забытое, утерянное; тогда много говорили о реституции художественных ценностей, человеческого капитала, правда, в нашем балетном случае было не совсем понятно, кем, когда, куда и что было вывезено и почему это надо возвращать, а не импортировать… Как бы то ни было, «возвращение» было шумным, но не особенно радостным: конечно, всегда найдется горстка ценителей, кому сносит крышу от чего-то такого, но, как говорится, en masse зрительный зал Мариинского театра сидел с поджатой губой. Ценности оказались каким-то не теми — некрасивыми, ненарядными, что ли… И какими-то чужими. Стравинский, Нижинские, Гончарова с Рерихом — вроде наши, но в то же время где-то там — а мы-то здесь… Между прочим, первую попытку протащить в Мариинский «Свадебку» Нижинской я предпринял еще в 1997 году: поймал гуляющего в компании с режиссером Валерием Фокиным Гергиева и упросил при мне посмотреть запись Парижской оперы; Гергиев сразу объяснил, что наш хор споет лучше французского (кто бы спорил, только спойте!), и посмотрел на Фокина — берем! Но потом что-то где-то не срослось (решили сэкономить), и место тридцатидвухлетней эмигрантки Брониславы Нижинской занял двадцатитрехлетний местный дебютант, которому Гергиев после премьеры вместо поздравления бросил через плечо что-то типа «мы ждали бомбу, а вы нас обманули»… Так ведь нас через пять лет и Бронислава Нижинская со своим безусловным шедевром обманула, а в далеком 1956-м нас в Эрмитаже и Пикассо обманул; нас все время кто-то обманывает — так нам кажется. На самом деле это мы сами обманываемся, ожидая каких-то мифических «бомб», на самом деле это не Стравинский далек от нас, а мы от него. Это мы опоздали, отстали от поезда, и у нас на руках невозвратные билеты: «С великого русского авангарда урожай снял Запад. Россия осталась ни с чем» — умная американка Джоан Акочелла написала это в «Нью-Йоркере» еще в 1986 году. В 2003-м долгожданный modernism великих русских эмигрантов стал для нас уже окончательно недостижимым, потерянным раем, а следовательно (включается защитный механизм), стал враждебным, «чуждым» [27], а еще — «холодным»: мы же по привычке ищем в искусстве «теплоты» и «души», душевной теплоты, а где там, в «Свадебке», теплота души — там каменные лица артистов, там даже рояль используют в качестве ударного инструмента. И мы закомплексовали, как бедные родственники, нам померещилось, что «они» обдали нас космополитическим снобизмом. Мы обиделись и ответили как умели, как отвечаем всегда — культурным хамством [28]. Мы просто прекратили всякие попытки слушать и смотреть, учиться смотреть и учиться слушать, снова смотреть и снова слушать — зал Мариинского театра опустел (та же история случилась и в ситуации столкновения с Форсайтом)… «Ты знаешь, кто такая Карсавина? — Ну, это та, кого в Лондоне видела Кургапкина» — чудесная байка из недр Мариинского театра. Наша культурная память атрофирована… Все было именно так, хотя, возможно, мне сейчас кажется, что было так, и, возможно, я не должен употреблять местоимение «мы». Сегодня Мариинский опять обещает чужую «Весну». Говорят, ее сочиняет хореографиня Саша Вальц, представительница унылой вереницы европейских знаменитостей второго эшелона — первый весь куда-то исчез. Великая Пина Бауш ушла и в насмешку оставила Германии и всем нам Сашу Вальц — так что трактора не будет, приеду я сам…
Продолжение следует.
[1] Если быть точным, дело обстояло так: в 1910 году Стравинский с Рерихом придумали одноактный балет, который должен был называться «Великая жертва». Стравинский упоминает об этом в переписке с Дягилевым (см.: С. Конаев. Рождение весны. В монографии «Век “Весны священной” — век модернизма». — М.: Большой театр, 2013. С. 37). В 1911 году замысел расширился: 7 сентября (по старому стилю) «Петербургская газета» сообщает, что Рерих и Стравинский «переделали свой одноактный балет в двухактный, дав ему новое название “Праздник весны”» (там же, с. 39). Как считает американский музыковед Ричард Тарускин, именно таким образом возник прототип для будущего французского названия. В диалогах с Робертом Крафтом Стравинский говорит, что французское название («Le Sacre du printemps») придумал Бакст (И. Стравинский. Диалоги. Под ред. М. Друскина. — Л.: Музыка, 1971. С. 149). Об этом же в 1912 году Стравинский пишет в письме А.Н. Римскому-Корсакову: «Ты уже знаешь, что я занят сочинением той вещи, которую я задумал после “Жар-птицы”, русское название которой еще до сих пор окончательно не существует, а французское (прекрасное) гласит: “Le Sacre du printemps”…» Важно понимать, что «Великая жертва» — это название исходного замысла и сценария одноактного балета, которое в итоге стало названием второй картины окончательной версии, названной «Le Sacre du printemps». Таким образом, В.М. Гаевский прав и не прав: «Великая жертва» — название первоначального замысла, ставшее названием второй картины двухчастного балета.
[2] Диалог был записан в марте 2013 года, в разгар полицейского расследования по делу о нападении на худрука балета Большого театра Сергея Филина.
[3] О феномене моды на «события» писала в «Ъ» искусствовед Кира Долинина. См.: Искусство быстрого рассмотрения // Коммерсантъ. 30 декабря 2016 года.
[4] Предлагаю придерживаться хронологии кураторов парижского музея д'Орсэ, датирующих художественный XIX век 1848–1914 годами.
[5] Ричард Тарускин. Сопротивляясь Весне. В монографии «Век “Весны священной” — век модернизма». — М.: Большой театр, 2013.
[6] Между прочим, Стравинский с американцами во многом благодаря еще и Баланчину. Давайте скажем честно, как часто исполнялись бы «Агон», «Аполлон», «Орфей», Движения для фортепиано и оркестра, Каприччио для фортепиано и оркестра, Симфония в трех движениях, Скрипичный концерт, Концертный дуэт и так далее, не будь все они поставлены Баланчиным, что сразу сделало их важнейшей частью золотого репертуара современного балетного театра, а следовательно, одними из самых исполняемых музыкальных сочинений XX века.
[7] Из народных сказаний: «Знаете, как Гитлер заставил Невилла Чемберлена пойти на Мюнхенский сговор? — Он устроил конференцию в старом замке, где нельзя было курить, и через полтора часа воздержания Чемберлен был готов отдать Гитлеру хоть мать родную».
[8] А. Левинсон. Старый и новый балет. — Петроград: Свободное искусство, 1917.
[9] Бежар сам признался, что, в отличие от 1913 года, скандала не вышло: «Попытались было заговорить о скандале, но не думаю, чтобы старые дамы были шокированы “Весной”, — старые дамы, которые и не такое видели, только прикидываются, будто шокированы». См.: М. Бежар. Мгновение в жизни другого. — М.: В/О Союзтеатр. СТД СССР, 1989. С. 92.
[10] Примерно в это же время Висконти увидел в гуще массовки лицо Хельмута Бергера, и это, как говорится, перевернуло его жизнь.
[11] Мемуары Мориса Бежара «Мгновение в жизни другого» были изданы в прекрасном переводе Ленины Зониной издательством СТД СССР в 1989 году, по следам триумфальных ленинградских гастролей 1987 года.
[12] У этого расчленения есть предтечи: «Свадебка» Брониславы Нижинской, построенная на параллельной работе мужского и женского кордебалета, и, конечно, ивановская вторая картина первого акта «Лебединого озера» с эффектной мизансценой-противостоянием: у левой кулисы внизу сцены группа охотников-мужчин во главе с премьером — и по диагонали, у правой кулисы наверху сцены, женский кордебалет лебедей во главе с балериной.
[13] P. Boulez. Orientations / Ed. by J.-J. Nattiez. Transl. by M. Cooper. — Faber and Faber, 1986. P. 362.
[14] См. тексты Е. Верещагиной, О. Манулкиной, М. Мищенко в монографии «Век “Весны священной” — век модернизма».
[15] М. Бежар. Мгновение в жизни другого. Перевод Л. Зониной. — М.: Издательство СТД СССР, 1989. С. 81.
[16] Балет «Кончерто барокко» для ансамбля из двух балерин, премьера и восьми танцовщиков кордебалета, сочинен Баланчиным в 1941 году.
[17] Мари Рамбер: «Стравинский топал ногой по полу, колотил кулаком по пианино, пел и кричал».
[18] Первые оркестровые репетиции «Весны священной» с балетной труппой состоялись всего за четыре дня до премьеры. Несколько лет назад я был свидетелем ситуации, когда хореограф-с-репутацией производил, так сказать, монтаж с колес, то есть начал ставить балет, когда партитура еще не была закончена: композитор играл ему на рояле, это была далеко не «Весна священная», тем не менее хореограф ультимативно потребовал собрать оркестр и произвести запись — без оркестровой фактуры у него «не шло»…
[19] Книга Левинсона «Старый и новый балет» вышла в свет в Петрограде в разгар Февральской революции 1917 года. Непосредственные впечатления от парижских премьер дополнены в ней аналитикой высочайшего класса, в некоторых аспектах так и не превзойденной по сей день. Конечно, здесь надо делать скидку на то, что Левинсон — человек петербургской пуристской неоклассики 1910-х годов, пришедшей на смену искусам декадентства. Он не просто защищает классический «старый балет» — всей силой своего интеллекта он старается доказать его вневременность, метафизичность.
[20] А. Левинсон. Старый и новый балет. — Петроград: Свободное искусство, 1917. С. 82.
[21] Б. Нижинская. Ранние воспоминания. Часть 2 / Перевод с английского И. Груздевой. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. С. 245.
[22] Чтобы не быть голословным, вот примеры: «Золото Рейна», первая часть вагнеровской тетралогии «Кольцо нибелунга»; вилла «Савой» Ле Корбюзье; «Девки с улицы Авиньон» Пикассо — да и «Черный квадрат», в конце концов.
[23] Эту историю хождения в Хеллерау и упрямого молчания Нижинского на обратном пути (говорил без конца Дягилев) удивительно трогательно рассказала его сестра Бронислава. См.: Б. Нижинская. Ранние воспоминания. Часть 2 / Перевод с английского И. Груздевой. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. С. 227–229.
[24] А. Левинсон. Старый и новый балет. — Петроград: Свободное искусство, 1917. С. 82, 83.
[25] Вообще начало сотрудничества с Большим театром в 2009 году далось мне нелегко, пришлось даже придумать для генерального директора, предложившего поработать на него, понятное объяснение моих сомнений: после двенадцати лет работы в Мариинском театре, включавшей в себя контрпрограммирование против Большого, начать работать на Большой — это как резко сменить сексуальную ориентацию: как говорят, дается с трудом.
[26] Я давно и с интересом наблюдаю, как свободные, одаренные, бывалые люди, попадая в Большой театр, начинают производить нечто странное. Давным-давно хореограф Алла Сигалова обронила, что все, кто начинает работать в Большом, становятся бездарными; тогда я счел это проявлением ущемленного самолюбия, но сейчас вынужден, хотя бы отчасти, с ней согласиться. Впрочем, не все так безнадежно: недавно один из так называемых молодых хореографов обронил, что факт постановки в Большом не решает больше ничего.
[27] Вероятно, мы никогда не сможем освободиться от этого понятия — «чуждость». Чуждости проекту «Возвращение» добавляло и то, что передача «Весны» и «Свадебки» была произведена «чужими», нечистыми англосаксонскими руками, что конспирологами было воспринято как акт колонизации: нас порабощали «чужим» искусством как бы «своих» людей, а на самом деле «чужих» — и вся эта неопределенность только добавляла сомнительности предприятию.
[28] «…Лет пять тому назад мне пришлось с писателями Буниным и Федоровым приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью. Около одиннадцати часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли закусить. Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными закусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф, какая-то дичь, маленькие, очень вкусные биточки и тому подобное. Все это было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. <…> Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому — словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами.
— Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов… Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово — чухонцы.
Другой подхватил, давясь от смеха:
— А я… нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул…»
Александр Куприн. Немножко Финляндии. Очерк (1908).
Понравился материал? Помоги сайту!
Ссылки по теме
 Общество
Общество