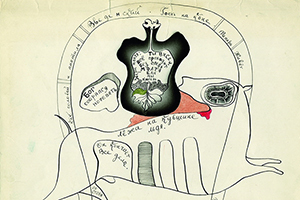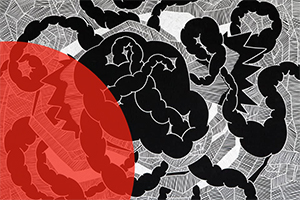Смерть Романа Виктюка вызвала, естественно, волну искренних эмоциональных признаний в чувстве потери, признаний в любви к его театру. Что-то важное для себя почувствовали и те — многие десятки — артистов, с которыми он работал, и критики, писавшие о нем кто часто, кто редко, кто, как и я сам, не писавшие вовсе. В историю русского театра Виктюк входит как очень своеобразный феномен. Надо подчеркнуть: во-первых, в историю — входит. Во-вторых, феномен своеобразный. И проблемный для осмысления, театроведением адекватно не изученный.
Эстетика Виктюка развивалась вне традиций русской режиссуры второй половины ХХ века. Она не наследует ни любому из вариантов реализма, ни условному театру в той метафорической форме, в которой наша школа выводит его из Мейерхольда, Брехта, Любимова.
Режиссер обнаруживал, стилизовал и эстетизировал драмы природных человеческих страстей, находил ритуальность в текстах неклассической и постнеклассической эпох, в ставших программными «Служанках», «М. Баттерфляй», «Федре», «Саломее». Психологическая драма переводилась на язык тела, играющего на сцене по театральным законам, на язык музыки, определяющей речь и течение действия. Ритмическая организация была ведущей, сюжетная подчинялась ей. Режиссер устранял границы «драматического» в театре, преодолевая литературность, повествовательность, приглашал на «драматические» роли вокалистов — Елену Образцову («Антонио фон Эльба»), Эрика Курмангалиева («М. Баттерфляй»), грузинскую джазовую певицу Нуцу («Эдит Пиаф»).
Про «Федру», постановку трагедии Цветаевой с Аллой Демидовой в заглавной роли, коллега удивлялась: «Что за стиль? Как будто вокруг Надежды Константиновны Крупской танцуют фавны». Если вычесть из этой формулы иронию, то она точна: личная трагедия исторического, реального, физического, чувственного человека выведена на уровень мифа, переведена на художественный язык. Появляется маска конкретной сущности.
Архетипический герой театра Виктюка стремится выйти из назначенной ему жизнью роли, поменять партитуру действия, попасть в другое амплуа.
Если искать в философии искусства обоснования театра Виктюка, то это эстетизм в классическом понимании (Пейтер, Уайльд, Готье). Дидактические и нравоучительные функции произведения в восприятии зрителя не важнее его художественных качеств, стиля спектакля, образности мизансцен, искусства актерского исполнения как специфического содержания театрального искусства. «Соответствие какой-либо жизненной правде устранено совершенно: перед зрителями проходит театральная жизнь с театральной обстановкой, с театральными декорациями, с театральными актерами… Искусство театра реально потому, что главный материал театра — актер и его тело — реален». Это можно отнести к спектаклям Виктюка, но было написано П.А. Марковым в 1924 году о Московском Камерном театре А.Я. Таирова. Здесь все переводится на специфический язык театра; литературное произведение, музыка, декорация, костюм предназначены помогать актеру в раскрытии его мастерства. Режиссер «строит речь актера, исходя преимущественно из музыкальных соображений: речь актера должна звучать как музыка. Движение актера он строит на строгом ритме, его актеры часто “танцуют” свою роль. Жест, музыка, речь, комбинация двигающихся масс — пробудят ответное волнение зрителя. Сюжет пьесы отступает на второй план. Речь актеров — напевна, из нее извлекается возможно больший звуковой эффект. Движения легки и изысканны». Эта художественная система подчиняется не правде жизни, а специфической «правде» театра. Обоснование «театра эмоционально насыщенных форм» позволяет понять и логику театра Виктюка.
Мифологичность формы влияла на тип содержания. В текстах ХХ века (Сологуба, Цветаевой, Кокто, Жене, Хуана, Уильямса, Петрушевской и многих авторов, например итальянских, имена которых нам ничего не говорят) Виктюк и его артисты отыскивали общечеловеческие сущности, актуальные и в язычестве, и в античности, и в современности: разумное/чувственное, мужское/женское, свободное/рабское, природное/социальное, западное/восточное. И всегда — игровое, связанное с ролью как судьбой. Служанки играют госпожу. Актер вживается в роль идеальной любовницы. Автор повторяет путь героини своего произведения через свободу к гибели. Несколько постановок — о «священных чудовищах», об актерах и актрисах, и об их собственных жизнях как о сыгранных ролях.
Архетипический герой театра Виктюка стремится выйти из назначенной ему жизнью роли, поменять партитуру действия, попасть в другое амплуа. В природе, в чувственности человека обнаруживается стремление к своей противоположности. «Я» / «не я» / «оно» может быть социальным, этническим, театральным, эротическим. В эротическом «не я» — объяснение того образа «мужчин в юбках», который в первую очередь приходит в голову большинству зрителей при упоминании театра Виктюка. Объяснение гомосексуальными мотивами будет упрощенным. Этими мотивами действие интерпретировать, конечно, можно (например, в «Рогатке», в «Саломее» раскрыта трагедия инаковости человека именно по признаку эротических стремлений, и надо отдать должное Виктюку: он единственный известный русский режиссер, который и впрямую, и ассоциативно в своих спектаклях подверг сомнению стереотипы общепринятых, «традиционных» представлений о границах сексуальности). И все же феномен стремления к противоположной роли во многих спектаклях режиссер принципиально поднимает на философский уровень. В его театральном методе человеческая чувственность — это природа философии.
По ощущению безграничной внутренней свободы, по независимости от господствующих традиций творческой эстетики Виктюка можно считать как бы иностранным режиссером русского театра.
Обобщенность вовсе не означает, что на сцене воплощаются образы чистого «имажинизма» (свободной игры воображения — цели раннего Таирова, бежавшего от пошлости реализма). Через страсть, подобную страсти мифической Саломеи, в спектакле Виктюка проходит и Оскар Уайльд; на жизнь Федры оглядывается Марина Цветаева; проживает в песнях свои реальные трагедии Эдит Пиаф. В основе мифа — отражения реального драматизма. В основе композиции — театральная двойственность.
Первым из крупных режиссеров именно Виктюк распознал драматургию Петрушевской как гротескную и метафизическую, открыл в ней двоемирие. Театральный язык его ранних постановок, о которых мало кто знает, — «Чинзано», «Дня рождения Смирновой» с самодеятельными артистами в ДК «Знамя революции» в начале 1980-х (как будто не предвосхищавший более поздние спектакли режиссера) — условно можно было бы назвать синтезом психологического натурализма и театра жестокости. Метафорическая атмосфера вырождения во всех поступках и словах и вне поступков, и вне слов висела в воздухе. Активность действия, напор всех персонажей, агрессивные реплики, жесты подчинялись не какой-нибудь логике, пусть самой злодейской, но как бы спрятанной всеобщей безумной силе, для которой все действующие лица были марионетками, хотя и очень физически подлинными. Натуральность была не в частностях, не в поведении, интонациях или характерности персонажей, не в микросюжетах действия: она была как бы за всем этим — тем, что являлось частными ее проекциями. Гротескно поставил Виктюк в «Современнике» четыре одноактовки Петрушевской под общим названием «Квартира Коломбины» — с эксцентрической, философской, психологической гротескной клоунадой Лии Ахеджаковой, игравшей четыре роли из советского быта как превращения вечной маски Коломбины.
С тех пор компонент игровой театральности остранял любой материал его театра — и комический, и трагический. Преувеличенная зрелищность становилась отличительным компонентом структуры. Зрителя сами по себе могли впечатлять приемы открытой театральности — сложные мизансцены, эффектная хореография движения артистов, игра света, музыкальные интермедии, грим, костюмы. Театр Виктюка сформировал свою публику, понимающую его язык и предпочитающую тот вид образности, который здесь встречает.
Конечно, глупо было бы характеризовать режиссера, поставившего чуть ли не 250 спектаклей, одной системой принципов. Скажем, совсем не впишется в концепцию мифологических форм коллективный перформанс «Underground» с участием лилипутов, сыгранный в пространстве подземного водохранилища в Киеве в 2000 году. Отличаясь необыкновенно оригинальным выбором материала для своих спектаклей, Виктюк вообще почти не обращался к «большой» популярной классике, открывал новые тексты. По ощущению безграничной внутренней свободы, по независимости от господствующих традиций творческой эстетики его, условно говоря, можно считать как бы иностранным режиссером русского театра. Он родился в городе, который тогда был польским. Он будет похоронен там, во Львове, в другой стране — Украине. Виктюк здесь — и его нет. Его сущность — двойственность. А историю русского театра без него уже не представить.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Общество
Общество