 She is an expert
She is an expertХищная мать-природа, мусор и раны пространства
 Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»© Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»© Дамир Юсупов / Большой театрДве ведущие балетные труппы Москвы одна за другой представили важные премьеры: Большой театр показал «Ромео и Джульетту» Алексея Ратманского, в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко исполнили четыре балета ХХ—ХХI веков. Комментирует Софья Дымова.
Премьеры в оперно-балетных театрах обычно делятся на две категории — те, что удовлетворяют внутренним потребностям (занятость артистов, обновление репертуара, касса), и «прорывные», рассчитанные, прежде всего, на внешний эффект и ажитацию. «Ромео и Джульетта» на Новой сцене Большого — не прорыв и вообще не новая продукция, а перенос из Торонто спектакля 2011 года, но и внутри театра его роль сомнительна: в репертуаре уже есть один «Ромео» в постановке Юрия Григоровича, причем идет он на отведенной туристам Исторической сцене — и будет там идти до скончания времен.
Автор премьерного «Ромео» по-прежнему имеет негласный статус главного российского хореографа, любимого дитяти и желанного гостя, но ставит на наших сценах непростительно редко — так что, на первый взгляд, может показаться странным, что руководство Большого отказалось от предложения Ратманского сочинить новый балет и настояло на переносе «Ромео». Может быть, сыграло роль желание «начать по старинке какую-нибудь толстую штуку» — заполучить в репертуар очередную пьесу с большими страстями и сильными характерами, что всегда столь любезны публике: программная дирекция Большого в последние сезоны педантично собирает балетную библиотеку — «Дама с камелиями», «Онегин», «Укрощение строптивой», «Герой нашего времени», впереди «Анна Каренина».
Может быть, понадобилось дать калорийную пищу артистам, особенно тем, кто звездными ролями не обласкан. Тогда расчет сработал — в новом спектакле несколько отличных работ: Александр Водопетов в партии Тибальда — не свирепый мачо, как его принято изображать, но трудный подросток, надувающий щеки, словно не мстить собрался, а обиделся на весь мир; Меркуцио Артура Мкртчяна — alter ego хореографа, интеллигент и умница, который даже Кормилицу на площади тискает с большой деликатностью; Нино Асатиани (Синьора Капулетти) досталась одна из самых выразительных мизансцен спектакля: в момент отчаяния дочери, выдаваемой замуж за нелюбимого, она вдруг оставляет роль железной родительницы и беспомощно сползает по пологу в рыданиях — возможно, вспомнив, что когда-то и сама была выдана насильно.
 Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»© Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»© Дамир Юсупов / Большой театрДалее можно углубляться в тонкости мизансцен и психологической разработки каждой партии — но очевидно, что ничего принципиального Ратманским на территории «Ромео и Джульетты» не придумано. Это может раздражать искушенного зрителя, видевшего не одну версию балета Прокофьева и ждущего от хореографа большого театрального жеста, сценического парадокса, — но это же свойство способствует легкому усвоению спектакля так называемой простой публикой: знакомо, линейно, уютно. Поэтому неверно рецензировать спектакль Ратманского в категориях «удалось — не удалось» и «хорошо — плохо»: балет, поставленный по заказу из Торонто, сработан мастеровито и добротно, со знанием законов композиции и желаний потребителя — не меньше, но и не больше.
Действие придерживается исходного либретто, близко к спектаклю Леонида Лавровского 1940 года, первой и канонической версии «Ромео», — разве что Джульетта (Анастасия Сташкевич) просыпается у Ратманского раньше, чем на Ромео (Вячеслав Лопатин) подействовал выпитый им яд. Но в остальном все как обычно: кто нужно — заколот, кто должен — выпил яд. Народ пляшет, герои бьются на рапирах, Капулетти справляют пышный бал в палаццо. Персонажи срисованы с популярных полотен Возрождения — так было и у художника Петра Вильямса в 1940-м. Ромео в белой рубахе возносит в поддержках облаченную в белый хитон Джульетту, и над ними звездное небо.
Единственная крупная находка Ратманского — переключение точки зрения и выпадение из бытовой реальности, то, чего в советском драмбалете не могло быть по определению. Сомнамбулический па-де-катр в спальне, где родители-зомби и ненавистный жених водят хороводы с Джульеттой, мы видим глазами парализованной ужасом героини. В той же логике — видение Джульетты обезумевшему Ромео, который долго сомневается, отомстить ли Тибальду за убитого Меркуцио, а также эпизод бега, когда Джульетта в безликой мужской толпе маниакально ищет изгнанного из Вероны любимого — и наконец сталкивается с его призраком.
 Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»© Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»© Дамир Юсупов / Большой театрВыгодное отличие от спектакля Лавровского — в хореографической насыщенности и отказе от строгого чередования пантомимных и танцевальных сцен. У Ратманского танцуют всюду и все, а фоном для танца часто служат игровые мизансцены, максимально естественные, лишенные фальшивых балетных жестов. Никакой монументальности: кордебалет, существовавший в советском «Ромео» единой плотной массой, здесь расщеплен на несколько малых ансамблей, действующих в сложном танцевальном контрапункте.
Хореографический текст выписан узнаваемым почерком Ратманского: классические па, но с максимально подвижным корпусом; неровный темп внутри танцевальных связок — постоянные ускорения-оттяжки; столкновение в одной комбинации канонического большого па и нескольких мелких, которым придана харáктерная окраска (нетипичные позиции рук или завернутые ноги). На диво логичный и связный танцевальный поток заполняет спектакль ровным слоем — но очень скоро эта континуальность начинает играть против результата: сценическое время замедляется почти до остановки. Возникает разрыв между бытовой реалистичностью действия, условностью пространства (сценография Ричарда Хадсона — терракотовые стены да голубой экран) и условностью танцевального языка; прибавьте сюда тяжелые «исторические» костюмы (тот же Хадсон) с бесконечными плащами и драпировками, убивающими хореографическую пластику.
«Ромео» Ратманского — спектакль исключительного спокойствия, где даже кульминация — поединки Тибальда с Меркуцио и Ромео — лишена высокого градуса. Это практически камерное представление с негромким пафосом, и автор не желает ни читать мораль, ни декларировать художественные манифесты. Скорее всего, именно это свойство «Ромео» и привлекло руководство Большого, чья репертуарная политика последних лет — «годить», как и предполагается в эпоху застоя, да мирно попивать чай с вареньем (исключения вроде «Нуреева» только подтверждает правило). Тихое время — тихие песни.
В театре на Большой Дмитровке в новом сезоне отказались от «характеров, судьбы и разговоров»: балеты-пьесы вроде «Майерлинга» и «Манон» ушли из репертуара (по слухам — временно), обещанный на закрытии сезона нуреевский «Дон Кихот» по жанру все-таки не мелодрама и не трагедия, а прямо сейчас репертуар активно пополняется короткометражными вещицами. В афише нынешней премьеры — фамилии сразу четырех авторов, и хотя сразу трое из них дебютировали на российской сцене, театр обставил премьеру без помпы — и выиграл.
Для разогрева публики был выставлен Джордж Баланчин, хореографией которого сегодня в России никого уже не удивишь — тем более если речь идет об исполненной уже тремя отечественными труппами «Серенаде». Она понадобилась МАМТу в терапевтических целях: танцовщицам — для развития координации и в качестве прививки от вульгарного «актерского мастерства»; зрителям — чтобы учились воспринимать абстрактную музыкально-хореографическую форму. Необходимого эффекта в Музтеатре еще придется ждать: от размашистой работы рук и небрежности стоп избавиться пока не удалось, как следствие — нет необходимой компактности перестроений, а в знаменитом медленном финале, «Элегии», слишком много литературных эмоций, что Баланчину только вредит.
 Сцена из балета «Ореол»© Светлана Аввакум
Сцена из балета «Ореол»© Светлана Аввакум«Ореол» Пола Тейлора представлял каверзы иного рода. Американский хитрец и пересмешник, Тейлор часто любит прикидываться Иванушкой-дурачком: тому свидетельством и тон программной статьи «Почему я ставлю танцы» (она опубликована в премьерном буклете), и сам «Ореол». На музыку Генделя три девушки и двое юношей в белой униформе без остановки прыгают и носятся по пустой, как у Баланчина, сцене. В пластическом тексте можно угадать и баланчинские связки классических па, но выглядят они словно в исполнении самодеятельного кружка: вместо округлых позиций рук — домики, позиции ног приблизительные, коленки вперед, а при прыжках пятки никогда не ставятся на пол — за что на экзамене в балетном училище так легко получить двойку с отчислением.
Но в том и подвох псевдоклассического «Ореола», на самом деле принадлежащего к традиции американского танца модерн: хореография чудовищно сложна для профессиональных артистов, наивность и корявость ложны, а то артистическое качество, которое критик Марина Борисова некогда определила как «мажорный идиотизм», культивируется вполне осмысленно. Пятерка отважных артистов МАМТа идиотизма с американским модерном постеснялась: руки привычно округлялись, и пятки честно ставились на пол — отчего эффект «Ореола», ощутимый на эталонной записи Датского балета, несколько поблек.
В сухом остатке — чистое художество, и это очень большой результат.
Финальный балет программы окончательно прояснил ключевой ее сюжет: метаморфозы классического балета — от вдохновенно-серьезного извода в «Серенаде» Баланчина до пародийного в «Тюле» Александра Экмана. Проявился и второй сюжет вечера — постепенное исчезновение собственно балета. Работы шведа-визионера Экмана в равных пропорциях состоят из танцевальных и разговорных сцен, задействуют массу бутафории и масштабные спецэффекты — вроде залитого водой планшета в «Лебедином озере» или тонны сена в «Сне в летнюю ночь». Вот только хореографии как таковой в его спектаклях нет: вместо связного, развернутого во времени пластического текста — взбвивание воздуха, вместо собственно движения — статичные и зацикленные механические действия: хождения, хлопки, притопы, пускай и ритмически сложно организованные.
Это как раз случай «Тюля» — несмотря на то что спектакль вроде бы посвящен классическому танцу. Экман сочинил карнавальную оду балету, а точнее — оду его неискушенному зрителю. Все, что для профана составляет в балете прелесть, — фуэте и трюки, воздушные пачки (собственно, тюль — материал, из которого пачки шьются) и рассказы о нелегком труде балерин — тщательно собрано, вклеено в одну тетрадочку и жирно обведено фломастером. Одетые лебедями и принцами артисты, как заведенные, повторяют школьные па и нервно считают вслух, как на репетициях. Под ремикс набивших оскомину антре и вариаций (саунд-дизайн Микаэля Карлссона) толпа молодых артистов шпарит нечто условно-виртуозное (такое любят устраивать в финалах сборных гала-концертов, называется «бисовка»), а в кульминации под треск барабана и лязг тарелок вылетает клоунская пара и выдает самые отвязные и разухабистые трюки — что отлично и с самоиронией проделывают Оксана Кардаш и Дмитрий Соболевский.
 Сцена из балета «Тюль»© Карина Житкова
Сцена из балета «Тюль»© Карина ЖитковаЕсли знать более поздние работы Экмана, «Тюль» уже не кажется таким остроумным, да и цельной драматургии все эти карнавальные зарисовки не образуют. Но что там недостатки композиции, если артисты ловят кайф от возможности поиронизировать над ремеслом, в котором варятся с десятилетнего возраста, — а публика доверчиво этим шуткам внимает, устраивая в конце овацию.
Единственная часть вечера, не вписавшаяся в общий сюжет, — старомодный «Онис» Жака Гарнье. Под блеяние аккордеонов трое юношей (в спектакле заняты новички труппы: Евгений Жуков, Георги Смилевски-младший, Иннокентий Юлдашев) изображают рыбаков французской провинции Онис: расслабленно кружатся, вдруг выстреливают в больших академических прыжках, выколачивают жигу — пока еще очень старательно и отнюдь не беззаботно, как это предполагал Гарнье. «Онис» лишний раз подтвердил, что чем бесхитростнее форма и скромнее умозаключения хореографа, тем радостнее публика принимает происходящее на сцене: будь проще — и люди к тебе потянутся.
В российской репертуарной практике так уж сложилось, что вечера одноактных балетов всегда воспринимаются декларациями о намерениях, парадом больших амбиций и прыжком выше головы. Программы МАМТа, инспирированные новым худруком Лораном Илером, — будь то летняя тройчатка «Лифарь/Форсайт/Килиан», нынешний проект или следующая премьера, вновь набор одноактовок, — не выглядят громкими заявками и манифестами. Такие вечера для Музыкального театра становятся пищей повседневности, разновидностью творческой рутины — в лучшем смысле этих слов. И если что-то роднит столь непохожие ноябрьские премьеры в Москве, то именно отсутствие у них дополнительной нагрузки — идеологической, политической и любой другой. Они никого ни к чему не обязывают и не требуют глубоких рассуждений о путях развитии хореографии. В сухом остатке — чистое художество, и это очень большой результат.
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости She is an expert
She is an expert Искусство
Искусство Искусство
Искусство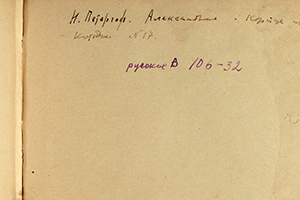 Литература
ЛитератураО тексте на последней странице записной книжки Константина Вагинова: хроника расследования
20 декабря 2021153 She is an expert
She is an expertАня Любимова об инвалидности и российском художественном образовании — в рубрике Алены Лёвиной
17 декабря 2021201 Искусство
Искусство Литература
Литература She is an expert
She is an expertШахматистки Алина Бивол и Жанна Лажевская отвечают на вопросы шахматного клуба «Ферзинизм»
16 декабря 2021505 Литература
ЛитератураПострочный комментарий Владимира Орлова к стихотворению Иосифа Бродского «На смерть друга»
16 декабря 2021645 Современная музыка
Современная музыкаЛидер «Сансары», заслуженной екатеринбургской рок-группы, о новом альбоме «Станция “Отдых”», трибьют-проекте Мандельштаму и важности кухонных разговоров
16 декабря 20213469 Академическая музыка
Академическая музыка Кино
Кино