 She is an expert
She is an expertХищная мать-природа, мусор и раны пространства
 © Well Sky Production
© Well Sky ProductionПроект «Синема верите» продолжается онлайн-показом одного из самых заметных документальных фильмов прошлого года — «Вари» Алены Полуниной. Это кино про Украину после Майдана, увиденную глазами москвички с оппозиционными взглядами.
Вы наверняка про него слышали, но, возможно, не видели, потому что на прокат его в России был наложен запрет.
Сегодня с 11:00 до 23:00 у вас есть возможность посмотреть это кино на COLTA.RU.
Почитайте, как Полунина его снимала. Узнайте больше про его главную героиню Варю Даревскую.
И сравните свои впечатления с мнением наших гостей, которые посмотрели фильм еще в декабре. Его обсуждение прошло с участием философа Олега Аронсона, публициста Александра Баунова, публициста Бориса Грозовского, социолога Льва Гудкова, журналиста Юлии Смирновой, а также Алены Полуниной и Вари Даревской. От COLTA.RU в разговоре участвовал Михаил Ратгауз.
Михаил Ратгауз: Давайте разговаривать про кино. Для разогрева я задам два вопроса героине фильма Варе Даревской. С конца съемок прошло примерно полтора года. Варя, я знаю, что вы после этого неоднократно были на Украине. Что вы там делали?
Варвара Даревская: Я действительно еще много раз ездила на Украину и в Донбасс. Когда началась война, я стала со своих друзей собирать деньги, и мы закупали в Москве Celax — порошок, который останавливает кровотечение, в том числе артериальное, и можно раненого дотащить до госпиталя живым. И мы стали этот порошок переправлять на Украину. Мы даже думали на обе стороны конфликта, но на стороне Донбасса были такие бандиты… и все равно Россия им помогала. Так что мы стали отправлять в украинскую армию. Я в Москве закупала и туда с этим приезжала. А какие-то любители Путина начали меня подкалывать: вот, вы ездите туда, где безопасно, нет чтобы в Донбасс. И я просто на Фейсбуке задала вопрос в воздух: «Может, поехать в Донбасс?» И вдруг оттуда начали мне сыпаться письма каких-то незнакомых людей: «Обязательно приезжайте…» Я спрашиваю: «Зачем?» — «Про нас напишете». Оттуда информация не шла. То есть в Россию в очень искаженном виде через наши СМИ, а на Украину не шла совсем, они вообще были в информационном вакууме. И они надеялись, что хоть как-то, по чуть-чуть, я же не СМИ, я смогу прорвать эту информационную блокаду.
И я поехала. Была в Луганске, в Донецке, в Горловке. И обнаружила там гуманитарную катастрофу. Была осень, и я понимала, что зиму там многие не переживут. И мы начали собирать деньги уже на луганских бабушек. Организовали каких-то волонтеров местных, и я начала возить деньги, потому что банков нет, переводить туда было невозможно.
Мне очень нравилось украинское волонтерство, которое после Майдана развилось, и мне казалось, что как-то Россию надо на это же раскачать. И я приставала к людям: «Вот вам нравится, что там война идет?» Они говорят: «Нет». — «Хорошо. А вы за кого? Если вы за Украину, то давайте вот сюда, мне на этот Celax в один кошелек. Если вы против Украины, давайте мне сюда, на бабушек, которых бомбят украинские каратели» (смеется). Отвертеться было некуда, и мы прошлую зиму с этим разбирались. А последний мой проект — я собираю письма из России, Украины, Донбасса, просто от людей, и вожу. И они уже ждут. И если кто-то после этой встречи сегодня захочет написать письмо на Украину или в Донбасс, у меня даже пустые открытки есть, я с удовольствием отвезу их людям, которые просто плачут от счастья, получив это.
Ратгауз: Когда вы сейчас смотрите в кино на себя тогда, в мае 2014 года, что вы испытываете?
Даревская: Не знаю… смотрю как на наивность. Мне жалко немножко того периода, потому что тогда казалось, что все закончится хорошо, а сейчас меньше так кажется.
Ратгауз: Почему?
Даревская: Ну, я меньше стала в людей верить, в человеческую природу, в то, что человечность победит звериную сущность.
Ратгауз: В каком смысле «звериную сущность»?
Даревская: В том, что трудно признать свои ошибки, признать себя виноватым и повернуть назад, даже если это имеет серьезные последствия. Или эгоизм, когда думают о себе больше, чем о людях, которые не твои родственники, где-то далеко. Или месть, или желание говорить категориями «мы-вы», или вера в то, что за преступление отвечает большая группа людей, только потому, что до нее проще добраться, чем до конкретного исполнителя преступления. Какие-то такие общечеловеческие вещи, которые с политикой не связаны, а связаны со всем миром.
Ратгауз: Но вы сами не сдаетесь, вы боретесь.
Даревская: Ну, я делаю что могу, а как получится — не знаю.
Александр Баунов: Во-первых, спасибо режиссеру за честность. У меня есть ощущение, что участникам Майдана и украинцам не совсем бы этот фильм понравился. Хотя в нем не было задачи осудить произошедшее. Во-вторых, спасибо опять же режиссеру за то, что я увидел иллюстрацию своей давней статьи, написанной до всякого Майдана, скорее, по арабским событиям: о психологии революции и о том, почему хочется, чтобы она длилась вечно. Кроме политики и экономики у революции есть психология. И человек, который втянулся в революцию, с большим трудом из нее выходит. И понятно почему — потому что он получает мощнейшую коллективную идентичность и очень трудно вернуться опять к индивидуальному. Кроме того, на протяжении революционных недель или месяцев он был героем, которому слава, и телезвездой. И к нему, никому не нужному жителю рабочего города, спального района или какого угодно, вдруг подходят ежедневно журналисты с Би-би-си, с Си-эн-эн с камерами, интересуются его мнением о политике, о судьбах Европы, мира, наблюдают за его личной жизнью, приезжают режиссеры и снимают о нем кино. И выйти из этого состояния назад в обыденность, к преподавателю, который поставит «незачет»? Нет, лучше он будет заседать в революционном трибунале. Или лучше мы переоденемся в камуфляж и будем грозить врагам. К начальнице-дуре пойти после этого? Кто она такая? Мы — герои, звезды, а она будет решать, дать мне премию или нет? Невозможно себе это представить! Очень трудно уйти. И вот тот летний Майдан, который вы снимали и который сами киевляне называли бутафорским, а потом его демонтировали, — это же как раз и была эта продленная фаза. Она была и после первого Майдана, и в Тунисе, и в Каире. Больше того, в Каире дело кончилось двумя сменами режима подряд — Мубарака, Мурси, и потом пришел Сиси. И на площади выходил часто один и тот же народ, который просто не мог прекратить революционное коллективное строительство.
Лев Гудков: Я хочу тоже, как Александр Баунов, поблагодарить. Очень любопытный взгляд, внимательный. И фильм, над которым надо думать. Он воспринимается как внутренняя полемика с той демагогией, которая начиная с февраля 2014 года обеспечивала в России массовый националистический подъем, сейчас только немного начинающий ослабевать. Для российского населения были характерны диффузное раздражение, злоба, комплексы неполноценности, не имеющие реализации. Поэтому реакцией на антиукраинскую пропаганду стал сильнейший националистическо-патриотический взрыв. Появилась объективация врага и возможность испытать патриотическую гордость, самоуважение. На Украине — а это я знаю по исследованиям украинских коллег — при всей смутности и пестроте мотиваций все-таки события окрасило возвращающееся чувство собственного достоинства, поднимающего людей. Если сравнивать, интересно отсутствие образа будущего в России. И смутное ощущение другого будущего, другой судьбы, той, которую люди сами могут строить, на Украине. Но и там, и там есть дефицит средств и в интерпретации ситуации, и в средствах выражения этого своего понимания. Поэтому все приобретает несколько карнавальный характер. И для Майдана эта смесь искренности и карнавальности очень характерна, и для первого тоже.
Невозможно идеализировать ни ту, ни другую сторону, и это, мне кажется, достоинство фильма — видеть разные грани человеческого подъема: нелепые, театральные, риторические… И тем не менее искренние. Потому что других форм, вообще говоря, чтобы почувствовать себя людьми, видимо, после советского прошлого у нас нет. Хотя я думаю, что и в других странах такая театрализация — это естественная форма выплеска коллективных представлений. И я хочу еще сказать: чего нет в фильме, так это политики. Вообще говоря, политика здесь просто начисто отсутствует! Ее нет во взгляде автора и нет у людей. Поскольку до политики просто ни то, ни другое общество не совсем доросло.
Борис Грозовский: У меня не было ощущения, что фрагменты, которые предшествовали «Варе» (на встрече были показаны отрывки из фильмов Полуниной «Революция, которой не было» и «Непал форева». — Ред.), и «Варя» — это один фильм. Если в первых фильмах показаны разные виды убожества и все время поражаешься тому, насколько оно многообразно и неисчерпаемо, в «Варе», наверное, как бы куски из «Непала» (фильма о партии «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области. — Ред.) промелькнули, лишь когда в Одессе была демонстрация у сожженного Дома профсоюзов.
Алена Полунина: Ну это же обычные люди… И это, мне кажется, не дает оснований называть их убогими.
Грозовский: Это не в презрительном смысле. Но люди, пришедшие к одесскому памятнику, вполне могли бы быть членами «Коммунистов Петербурга».
Полунина: Надо еще учитывать контекст этих дней, очень напряженных. Вечером в городе была паника, и я видела, что люди там были в пограничном состоянии, многие говорили: «Что ты здесь гуляешь поздно? Сейчас будут бомбить!». Такое было настроение. И на самом деле это смельчаки! Можно как угодно к ним относиться и к тому, что они кричат: «Мы хотим домой, в Россию!» Может быть, это не соответствует вашим взглядам, вы на другой стороне конфликта, но они в эти дни пошли, на них могли напасть, и они чувствовали, что рискуют. То ли я просто заигралась с эмпатией, но я понимаю, что они фальшивят, пытаясь запеть, они выглядят забавно, и, в конце концов, они не голливудские актеры, но, мне кажется, они тоже вызывают сочувствие, не меньшее, чем… да вообще все.
Грозовский: Видимо, наши симпатии и антипатии в очень большой степени определяют то, что мы видим и как мы видим. А в Киеве я бывал несколько раз весной 2014 года и останавливался ровно в том же хостеле, где Варя.
Полунина: Где Варя разбудила меня ночью с просьбой дать ей маникюрные ножницы и этим покорила меня просто совершенно (смеются)! Кривыми путями находятся герои… Хостел «Балерина», очень смешной, весь в рюшечках. В центре, прямо на Майдане. Он пустовал, потому что туризма в эти дни не наблюдалось, все как-то боялись. И мы одномоментно туда вошли с Варей, ну, может быть, я вошла на 10 минут раньше. И все постояльцы, которые там были, — это были мы.
Грозовский: Да, это хостел известный, он очень удобен, он находится в пяти минутах от Майдана, и зимой-весной 2013—2014 годов он пользовался у туристов из России большой любовью. Мне кажется, удивительно точно в кадрах этого времени передана тревога. Все мои киевские друзья (и я тоже) в тот момент ждали, что два дня — и танки российские то ли в Харькове будут, то ли в Киеве. Вот это ощущение тревоги и в то же время такой чистоты и готовности ко всему: будь что будет, о'кей, мы все примем, мы будем бороться, мы сделаем то, что должно. И абсолютно понятная история с «Правым сектором» (запрещенной в России организацией. — Ред.). Действительно, ведь на Украине одна из главных вещей, оказавшихся разрушенными после Кравчука, Кучмы, Януковича, — это силовые структуры: милиция, служба безопасности, армия. Они на момент взятия Россией Крыма отсутствовали целиком и полностью. Поэтому вот Винницкая УПА, «Правый сектор», запрещенные в России, — это все попытки гражданского общества создать силовые структуры в стране, где их нет вообще, где они государственным режимом разрушены. Понятно, что это попытки часто неуклюжие, что совершается большое количество ошибок и заблуждений, но другого варианта на май 2014 года не было.
Полунина: По поводу «Правого сектора». Не могу молчать, что называется. Мои респонденты, с которыми я подружилась на Майдане в конце февраля, из самой Западенщины, писали, что люди, которые начали лидировать в местных отделениях «Правого сектора», были какими-то мелкими бандосами. Пена революции подняла очень мутных людей. И на самом деле я не заметила, чтобы к ним относились как к альтернативе полиции. Это все-таки очень одиозная националистическая партия, и ее побаивались, по-моему, люди более умеренного политического темперамента. Видимо, у нас диаметрально противоположные взгляды на это.
Юлия Смирнова: Когда я смотрела фильм, я вспоминала свои ощущения. Потому что я примерно тогда же находилась на Украине, но больше в Донбассе. И у меня осталось впечатление, что это время, когда маховик насилия раскручивается все дальше и дальше и его уже невозможно остановить. И поэтому было очень интересно смотреть на человека, который открыто разговаривает со всеми, именно по-человечески: и с «Правым сектором», и с другими. И мне показалась очень точной в фильме сцена в маршрутке, когда люди начинают говорить о коррупции, о том, что и Ахметов, и Порошенко одинаково виноваты. И я вспомнила свои ощущения от поездок по Донбассу где-то примерно в апреле-мае, когда я разговаривала с возмущенными людьми и в какой-то момент поймала себя на мысли, что они возмущаются ровно тем же, чем возмущались люди на Майдане: коррупцией, провалом государства на Украине. Но они приходили к совсем другим выводам. Для них ответом был путь не в Европу, а в Россию.
Полунина: И как вы для себя объясняли, почему жители одной страны находили на один вопрос разные ответы? Просто интересно.
Смирнова: А я не нашла ответа. Важный опыт того времени был, что их политические взгляды совершенно нерациональны. И даже личный опыт на них не влияет. Например, осенью мы были в деревне на границе с Россией, которую полностью разбомбили, и кто-то говорил, что в этом виноваты украинцы-каратели, потому что они поставили свои танки рядом с жилыми домами. Кто-то говорил: «Ну бомбили же явно из-за российской границы». А большинство отвечали: «Мы не понимаем».
Полунина: Вы сказали, что считаете, что политические пристрастия личный опыт не определяет, а я вот чем дальше, тем больше убеждаюсь, что только личный опыт определяет все остальное.
Смирнова: Да, со мной были разные ситуации. Например, один водитель на стороне, подконтрольной украинской армии, каждый раз, когда мы проезжали мимо украинских солдат, говорил: «Вон нацики пошли…». Хотя при этом он рассказал, что один раз он ехал через ДНР и его чуть не убили, у него отобрали микроавтобус. Но он объяснил себе так: это низшие чины, а идея ДНР правильная.
Полунина: Так обычно и происходит.
Даревская: Я, собственно, пытаюсь свести для себя эти непримиримые стороны. И поскольку Майдан — это точка отсчета, после которой Донбасс повернулся от Украины, это болезненная тема, про которую они говорить не хотят, а я заставляю со мной про Майдан разговаривать. Для себя я пришла к выводу, что Майдан делали предприниматели, которые хотят, чтобы не было коррупции, чтобы можно было спокойно работать, зарабатывать, никто не мешал. И Европа — для них это идеальный строй, чтобы делать свое дело и получать достойные деньги. В Донбассе совершенно другая идеология, социалистическая. Самоценность труда для них превыше всего. И вот когда уже произошла эта война, они полгода ходили на работу, не получая за это ничего, и им даже не обещали. А когда Майдан развернулся в сторону Европы, они не поняли, а почему их не спросили. Потому что они хотели другого — они хотели вернуться в СССР. То есть к России. И до сих пор мне кажется, что войны можно было бы избежать, если бы победивший Майдан быстро понял, кому он навредил, к этим людям развернулись бы и начали бы с ними разговаривать, выяснять, чем можно компенсировать их потери от победы Майдана. Но этого не случилось…
Олег Аронсон: Судя по всему, среди всех поблагодаривших должен быть один, кто выступит критически, и это буду я. Я бы хотел затронуть не сюжеты, связанные с украинско-российскими отношениями, а тему, собственно говоря, кинематографическую. Начать бы я хотел с того, что я до этого видел фильм «Революция, которой не было» и тогда его воспринял достаточно спокойно. Такое кино, которое можно считать даже наивно-консервативным, то есть сделанным по правилам, сложившимся в документальном кино.
Для меня всегда документальное кино связано с определенным типом риска вторжения в реальность, а не с персонажными, сюжетными ходами. И когда я сегодня посмотрел фильм «Варя», для меня этот фильм был не об Украине, а о странной дружбе и путешествии сандалий и золотых сапожек. Потому что этот прием уничтожает документальность. Как и многие из приемов, которыми пользуется режиссер. Я вовсе не хочу сказать, что документальность — это когда мы поставили камеру и ждем, когда сама реальность попадет в кадр, нет-нет. Я просто считаю, что, когда мы идем по пути приемов такого рода, мы формируем определенную дистанцию в отношении изображения. На мой взгляд, современный документалист должен эту дистанцию постоянно снимать, показывать, что он не наблюдатель, а в каком-то смысле участник, он тоже испытывает определенный род ущерба, в том числе и морального, тем, что он вторгается в события.
Здесь же мы имеем вполне персонажное кино — и в фильмах о нацболах и коммунистах, и в фильме «Варя». У режиссера, конечно, есть способность превращать всех персонажей во фриков. Эта способность несомненная, но она как раз и делает эти фильмы политическими. Не то что фильмы посвящены политическим темам, вовсе не это, а именно то, что выбраны политически слабые и превращены во фриков. Нельзя быть нейтральным и нельзя издеваться над политически слабыми. Это не моральный императив, это императив политический. То есть режиссер может это делать, но он тогда должен отдавать себе отчет, что он действует на стороне силы, власти, идеологии. И в этом смысле для меня, конечно, фильмы эти очень идеологические. Они демонстрируют сопротивление, революцию в тех формах, в которых они должны быть унижены и оскорблены.
Полунина: Это очень круто и логично, и тут, конечно, не подберешься. Но это ваше видение метода, одного-единственного, и это ваше право. А мне нравится персонажное кино, вот нравится, и все тут, ничего не могу поделать.
Аронсон: Да пожалуйста. Вот Зайдль честно говорит, что он снимает художественное кино, хотя использует реальных людей. Называйте свое кино игровым!
Полунина: Позвольте не согласиться, это все-таки разные жанры. Они просто технически разные.
Ратгауз: Я тут хочу встать на защиту Алены. А кто эти императивы назначил, о которых вы говорите, Олег? Кто тот самый Господь Бог или сила, которая выдает нам эти законы? И почему на политические или политизированные группы, становящиеся объектами для фильмов Алены, мы должны непременно смотреть с точки зрения дискурса власти? Почему не можем мы освободиться от него и смотреть на них своими глазами?
Аронсон: Не можем. Потому что дискурс — это всегда дискурс власти.
Вопрос из зала: Подождите, а если бы Алена сняла Госдуму? Я заранее облизываюсь, как бы это было!
Аронсон: Но она же не сняла Госдуму.
Вопрос из зала: Туда же не пускают!
Аронсон: Дело не в том, пускают туда или нет. Каждый человек может снимать все что угодно, но мы можем оценивать это. А если кого и надо защищать, я считаю, то Алену защищать не надо, защищать надо меня. Потому что я здесь высказываю позицию, которая в меньшинстве, которая пытается говорить от слабых, от превращенных во фриков…
Даревская: Можно я скажу от фрика (смеется)?
Аронсон: Я не хотел бы присутствующих называть фриками. Я говорю аккуратно: Алена превращает своим кино людей во фриков.
Даревская: А можно я скажу как человек, которого Алена превратила во фрика? Я очень боялась смотреть этот фильм первый раз, потому что я понимаю, что такое Алена и в кого она может меня превратить. И я понимаю, что там все правда, вот какая я есть, такая и есть. И я вижу других людей — какие они есть, такие и есть. И вот такие люди творят историю.
Полунина: Я слово «фрик» не понимаю и не люблю…
Аронсон: Я не считаю, что Варя фрик, и я не называю людей фриками, я говорю лишь о том, что у Алены в режиссуре есть способность превращать их во фриков, таков ее отбор материала…
Даревская: Отснято было много часов, я уверена, что Алена таких фильмов могла штук 10 собрать. И все были бы с фриками.
Полунина: Вы напрасно мне приписываете какую-то алхимическую возможность превращать людей во фриков. Скорее, у меня просто есть чувство юмора.
Аронсон: Это можно просто по кадрам показать, как это делается!
Полунина: Это ваша проекция! То, что кино не идеализирует, это так, но оно и не карикатуризирует добавочно. Такой задачи не стоит. Просто я больше всего в жизни опасаюсь и не понимаю так называемого нормального человека. Нет, Варя — абсолютно нормальный человек, я имею в виду, что нормальный человек после работы идет домой, а не едет, как Варя, спасать мир. В этих нормальных людях я ничего не понимаю.
Вопрос из зала: Фильм смотрится как сказка, в которой есть чистосердечный, наивный герой и безумие вокруг. И таких сюжетов много, от «Форреста Гампа» до «Алисы в Стране чудес». И к вам обеим у меня вопрос. До какой степени уровень безумия тут передан адекватно? Есть ли у вас ощущение, что вы сгустили краски? Или, наоборот, может быть, вы показали такой лайт-вариант безумия?
Даревская: Фильм абсолютно соответствует тому ощущению, которое там было. Степень безумия примерно такая.
Вопрос из зала: И еще маленький вопрос. Все-таки как на Украине восприняли фильм? Узнает ли себя украинское общество?
Даревская: Я пыталась показывать фильм, в том числе его участникам. В целом они им оскорблены, они говорят: «Почему нас показали в таком виде?» И потом с теми, кто не потерял способность рассуждать, мы обсуждали: может, надо посмотреть на свою жизнь, может, она действительно такая? И они смотрят — да, надо задуматься. Но фильм неприятный. У кого есть силы с этим справляться, те к нему начинают лучше относиться.
Вопрос из зала: Здесь прозвучал вопрос: почему одна и та же нация на западе за Майдан, на востоке за Россию? У меня есть вариант ответа, потому что я знаю Донбасс. В принципе, он после Второй мировой войны был пустынный, донецкое население было близко к нулю. Причем до войны город, конечно, был, его в ходе войны не стало. И когда его восстанавливали, его восстановили на пару-тройку километров на север по сравнению с тем, где он был раньше. Там весь народ пришлый. Я там учился в школе, и я нашел одну семью, где дедушка родился в Донецке. Все родители моих друзей родились кто в Одессе, кто в Харькове, кто где. Этот город — совершенная сборная солянка, он возник в конце 40-х — начале 50-х. И там реперные точки во времени — это 40-е — 50-е — 60-е годы, не дальше. А на основной Украине есть деды, прадеды, то есть бэкграунд совсем разный. И у меня вопрос. Вот эта замечательная дама в золотых сапожках (спутница Вари, «берегиня Майдана». — Ред.) — не хочу говорить, плохая она или хорошая, у девушек должна быть мистификация, но в пределах нормы, а у нее зашкаливает.
Полунина: До Майдана, до декабря 2013 года, она работала в сфере торговли и в общем-то вела нормальную жизнь. Но потом начался Майдан, то самое индуцированное безумие… Есть такой термин в психиатрии. И потом она мне рассказывала: когда были эти известные даты в феврале, она несколько суток не спала. А до этого у нее была еще черепно-мозговая травма. И вот это все вместе дало такой «эффект Майдана». Там на самом деле похожих персонажей было много. Но она очень социальная, она классно разруливает все, связанное с питанием, со снабжением, всех обаять, везде вписаться, и вообще такой живчик. Но да, странность осталась. Насколько я знаю, Варя с ней продолжала общаться, потом как-то все выровнялось, и сейчас все хорошо.
Даревская: Нет ничего хорошего, на самом деле. Последний раз, когда я приезжала в Киев, я уже не смогла до нее дозвониться. И никто из наших общих знакомых не знает, где она. Я вот скоро опять поеду в Киев и буду ее искать. Мне жалко ее терять. Ничего хорошего и после съемок не было, потому что потом ко мне приезжал ее жених. А история там такая. Они решили на Майдане останавливать войну. Он сам россиянин, он с ней познакомился как-то на Майдане, уже после всех этих событий, и они начали со сцены на Майдане кричать «За мир», чтобы Порошенко вывел войска из Донбасса, что-то такое. Его там один раз забрали, второй раз забрали, а третий раз его депортировали в Россию, когда он как раз ко мне приехал. У них был план, что вот душа Украины, душа России, что мы втроем должны на Майдане орать за мир и это должно как-то подействовать. Так что не знаю…
Полунина: Нет, ну она, конечно, такая скаженная! Не знаю, в игровом кино это был бы дурной вкус — и все, что происходит в сломавшейся маршрутке, и прочее. А вот в документальном… Или Сергей из Винницы, который убил человека, сидел, а потом стал героем революции, захватив местную администрацию.
Вопрос из зала: Вы упомянули про Сергея из Винницы, вы про него в фильме сами рассказываете, своим голосом. Я хотел бы понять: на каком-то этапе работы вы приняли решение работать с закадровым голосом, авторской интонацией, и почему? В предыдущих фильмах вы без этого обходились.
Полунина: Надеюсь обойтись и в дальнейшем. Это был чистый эксперимент. Я не то что понижала градус, планку задачи, но я просто поняла, что это кино надо снять каким-то таким способом. На самом деле этому предшествовала долгая экспедиция, и я там чуть было не начала снимать кино в львовском дурдоме, где один из героев зубы рвал психам, он был такой просто лютый националист, очень харизматичный! Абсолютно отмороженный. Очень много героев было, а потом я увидела эту маленькую, камерную историю — Варю, которая с сумкой шла в хостел. Я подумала, что Варя — математик… И спросила: «Вы — профессор математики?» — «Нет, всего лишь учитель». Но про математику я угадала. И мне показалось, что тут надо, как школьнику, просто сделать работу этюдного плана. Потому что все остальные истории, которые я оставила в разных городах, — все это было очень сложносочиненно и даже мне казалось на грани символизма, придуманности, тяжести вхождения, когда не резонируешь с героем. А тут я подумала: ни фига себе — приехать на Украину, сносить несколько пар железных сапог и вдруг на Украине встретить Москву! Ну отлично. И только для этого закадровый голос. Возможно, это была моя ошибка, но мне показалось, что это чего-то добавит. Я это кино расцениваю как эксперимент.
Вопрос из зала: От этого есть ощущение сказки.
Полунина: Из-за этого ужасного закадра (смеется)? Вообще я это не очень люблю, потому что это подпорка драматургическая, когда человек не может внятно с помощью материала рассказать историю. Это часто используется телевидением, и оно абсолютно загадило этот прием. Но тут мне показалось забавным… И это еще женский закадр, что нестереотипно, потому что обычно voiceover — мужчина. И это добавляет во все еще такого странного, абсурдного. Но поскольку история камерная, я не стала это педалировать. Я не успела придумать, как, допустим, себя ввести как персонажа. Я очень люблю жанр «я-кино», и в связи с конфликтом на Востоке Украины и на Майдане сейчас появилось много фильмов, очень интересных как документы времени, в дневниковом жанре. Много «я-кино», где как раз есть то, что так ценит уважаемый Олег, когда режиссер ставит эксперимент над собственной экзистенцией, принимает участие в событиях. У меня один знакомый снимал в Донбассе, внутри ополчения, и он тоже вел себя как персонаж. Я не знаю, почему этот фильм не показывают на фестивале «Артдокфест», например, как другой взгляд. Фильм хороший получился.
Баунов: И еще одно. Ну, понятно, что Майдан предпринимателей и успешных людей умственного труда, горожан, который был зимой, разошелся и к лету осталось то, что осталось, то есть те, кому не к кому пойти, те самые немощные мира. Но я о другом. Почему, собственно, околорелигиозный персонаж в центре фильма («берегиня Майдана». — Ред.)? Потому что Майдан — это, конечно, не только поворот в пространстве на Запад, но и еще немного во времени, это поворот в старую Европу, которой уже нет, где носят национальные костюмы. Это Европа молебнов, свечей, Христовых распятий, где люди молятся гораздо больше, чем в реальной Европе. Вот когда они обсуждают, кто возглавит нацию, что нет у нас лидера, все плохие, есть какая-то пустота в середине, и эту пустоту заполняет вроде бы что-то религиозное, но и религия эта какая-то странная, какая-то постсоветская. Но главное — это момент поворота к старой Европе, где в центре все-таки какой-то Бог, и этот момент пойман в персонаже из тех оставшихся, которым некуда пойти.
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости She is an expert
She is an expert Искусство
Искусство Искусство
Искусство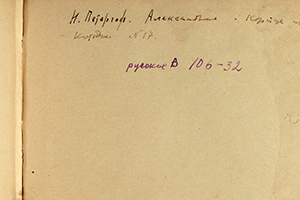 Литература
ЛитератураО тексте на последней странице записной книжки Константина Вагинова: хроника расследования
20 декабря 2021153 She is an expert
She is an expertАня Любимова об инвалидности и российском художественном образовании — в рубрике Алены Лёвиной
17 декабря 2021201 Искусство
Искусство Литература
Литература She is an expert
She is an expertШахматистки Алина Бивол и Жанна Лажевская отвечают на вопросы шахматного клуба «Ферзинизм»
16 декабря 2021505 Литература
ЛитератураПострочный комментарий Владимира Орлова к стихотворению Иосифа Бродского «На смерть друга»
16 декабря 2021645 Современная музыка
Современная музыкаЛидер «Сансары», заслуженной екатеринбургской рок-группы, о новом альбоме «Станция “Отдых”», трибьют-проекте Мандельштаму и важности кухонных разговоров
16 декабря 20213467 Академическая музыка
Академическая музыка Кино
Кино