 Литература
ЛитератураЯ верю в американскую церковь поэзии!
 Алексей Кившенко. Военный совет в Филях. 1880© Государственный Русский музей
Алексей Кившенко. Военный совет в Филях. 1880© Государственный Русский музейНовый номер журнала «Неприкосновенный запас» (5/139) посвящен теме, которая сегодня у многих на устах: судьбам сегодняшней демократии, которая — как это очевидно по серии выборов от американских до недавних немецких — переживает трудные времена. Как почти единодушно утверждают эксперты и наблюдатели, демократия в ее ставшей уже обыденной представительской форме перестала безотказно работать. Что должно прийти ей на смену?
Один из популярных вариантов — делиберативная, то есть совещательная, демократия. Что это такое и как это может действовать в нынешней политической реальности, думает независимый политолог Александр Кустарев в этом тексте, который Кольта публикует как препринт из нового номера «НЗ».
Текст публикуется в редакции источника.
 © «Новое литературное обозрение»
© «Новое литературное обозрение»На повестке дня — делиберативная согласительная демократия. Интерес к ней растет, потому что партийно-представительная конкурентная демократия, по видимости, приходит в упадок.
Во-первых, она становится дисфункциональной, поскольку неадекватна содержанию и конфигурации социального конфликта. Один сегмент общества деполитизируется, а другой становится все более фрагментированным и хаотичным. Избирательные предпочтения публики все более субъективны и сильнее мотивированы потребностью в знаковом самоутверждении, чем интересами общества и даже материально-потребительскими и социальными ожиданиями разных агентур, либо уже вполне удовлетворенных своим благообеспечением, либо не сознающих, что их политический выбор грозит потерями им же самим.
В результате стерилизуется центральная процедура демократии — выборы. Они не обеспечивают устойчивого режима переменного правления убедительного большинства и теряют (уже потеряли) свой главный, если не единственный, raison d'être: способность держать власть под угрозой устранения (так называемое «ретроспективное голосование») и таким образом хотя бы как-то контролировать работу правительства или ставить ему условия.
Во-вторых, демократия теряет моральный авторитет. Устранив старый господствующий слой, она не только не смогла блокировать появления нового, но и привела к его возникновению. А поскольку новый истеблишмент продолжает себя обозначать как агентуру демократии, антигосподский инстинкт масс поворачивает их парадоксальным образом против демократии, с которой теперь в его глазах ассоциируется истеблишмент.
Что это может означать или что за этим последует? Чисто умозрительно вообразимы три варианта. Или «евродемократия», в согласии с давно известной циклической схемой Аристотеля — Полибия, вырождаясь, заменяется аристократией (элитократией) или даже монократией — с тем, чтобы вернуться обратно, когда они, в свою очередь, деградируют. Или, в согласии с представлением о поступательном социогенезе, демократия кончается навсегда как непригодная для управления сложносоставными совокупностями индивидов и их партикулярных кластеров. Или, наоборот, демократия установилась навсегда и теперь будет трансформироваться из одного своего временнóго состояния в другое — экспериментально и на ощупь, как это видел Джон Дьюи [1]. Теперь, в частности, партийно-представительная демократия преобразуется в делиберативную — пусть не сразу и не полностью, но, во всяком случае, напрямую.
Циклическую и эволюционную модели нетрудно совместить. Для этого достаточно представить себе, что социогенез идет не по прямой, а по спирали, то есть через циклы, в ходе которых один из вариантов, хотя и неизвестно заранее, какой именно, обнаруживает свое превосходство и в конце концов вытесняет другие. Сколько таких циклов еще предстоит, неизвестно, но какой-то финал неизбежен.
Сравнивать шансы этих вариантов можно до бесконечности. Избежим этой казуистики и попытаемся обсудить, в какой мере и как именно делиберация и демократия совместимы, — что само по себе является неочевидным состоянием.
Сейчас термин «делиберация» употребляется исключительно в связке с термином «демократия». Это приводит к некоторой аберрации, создавая впечатление, что делиберация соединима только с демократией. На самом деле она может быть демократической и недемократической в зависимости от того, кто и как в ней участвует. Круг участников делиберации, аналогично электорату, может расширяться и сужаться.
Историческая летопись делиберации в условиях монократии и элитократии выглядит весьма внушительно. В этом нет ничего неожиданного. Если делиберация — это спокойное и всестороннее обсуждение с целью найти согласие, а не конфронтация с целью навязать свою точку зрения остальным участникам разговора, где все сводится к сколачиванию большинства любыми средствами (торги, шантаж, подкуп, харизматическое гипнотизирование и прочее), то делиберация имманентна прежде всего коллегиальному правлению, ибо «правление более основательно и обдуманно в условиях коллегиальности», как замечает Макс Вебер, а «коллегиальность чисто совещательных органов существовала всегда и будет существовать всегда» [2]. В практике коллегиальности прежде всего отрабатывается техника делиберации, привычка к рациональному обсуждению чужих резонов, развивается аналитический навык и исследовательский инстинкт; укрепляется способность оценивать последствия ранее принятых решений, признавать неудачи и исправлять ошибки.
Рациональное обдумывание проблемы как умственная операция появляется уже на заре антропогенеза и в дальнейшем развивается и институционализируется как коллегиальность. Любой верховный правитель, даже полный хозяин положения, если он не психопат и не социопат (что, конечно, случается), так или иначе обдумывает свои решения, взвешивая «за» и «против» с помощью советников. Он вынужден допустить делиберацию, а иногда даже поощряет ее.
А в органах коллективной власти режим постоянного открытого кругового консультирования просто неизбежен — иначе трудно сохранить их единство даже при устойчивом единстве материальных интересов. Можно думать, что именно в коллективных тираниях, как бы они ни третировали своих подвластных, консультации ближе всего к скрупулезной делиберации, не коррумпированной тщеславием участников и их симпатиями и предрассудками.
Фактура делиберации в совещательных органах плохо изучена. До сих пор на нее вообще не обращали внимания как на особый стиль человеческих отношений, но, кроме этого, она неадекватно документирована, поскольку делиберация вплоть до совсем недавнего времени была устной и не протоколировалась. Она, конечно, оставила какой-то след в мемуарах и переписке релевантных персонажей, даже если они, участвуя в делиберации, не понимали, чем занимаются (как мольеровский Журден не знал, что говорит прозой), но мобилизовать этот ресурс и извлечь из него информацию смогут только те, кто знает, что ищет.
Практика коллегиальности давно стала общим местом в наставлениях правителям как главном жанре ранней нормативной политологии. На новый уровень она выходит на рубеже XVII–XVIII веков в концепции просвещенной монархии. «Просвещенность» обычно иллюстрируется модернизаторскими реформами, но она не меньше ассоциируется с практикой совещательности (делиберативности). Эта практика недостаточно хорошо видна под грудами летописного мусора в виде анекдотов об авторитарных выходках таких фигур, как Людовик XIV или Петр I и Екатерина II, и трудно распознается из-за того, что рациональные дискурсы прошлого вполне могут показаться вовсе не рациональными современному наблюдателю и казуисту. Практики совещательности лучше просматриваются в правлении Марии Терезии и Иосифа (Габсбургов), а особенно — под председательством Фридриха II в Пруссии и, конечно же, в правлении российского императора Александра II. Назвать такое правление «делиберативной монархией» мешает только то, что делиберация при традиционной монархии не была обязательна по закону, то есть не была конституционализирована, а ее орган не был полномочен принимать решения без санкции государя.
К этому, однако, дело шло: появилась идея конституционной монархии, которая развивалась адептами монархии (особенно в Пруссии/Германии) в надежде спасти ее от демократизации точно так же, как проект делиберативной демократии теперь предлагается твердыми демократами в надежде спасти демократию («от себя самой», как добавляют многие).
В просвещенной монархии локусом коллегиальности-делиберации все еще остается двор, как его интерпретировал Норберт Элиас [3] и что мы теперь назовем «ближним кругом» властителя или ядром истеблишмента, хотя монократ, случалось, разгонял свой ближний круг и вербовал новый. Но тенденцию к конституционной сублимации у двора перехватил сословный парламент, возникший на месте феодального, в свое время почти повсюду фактически забытого. Здесь лидировала Англия. Джон Стюарт Милль, в сущности, концептуализирует парламент как орган делиберации:
«[Парламент] — арена, где высказываются во всем свете и могут выступить на борьбу не только общие мнения нации, но даже каждой ее партии <...> и даже каждой замечательной личности; где каждый, чье мнение отвергнуто, имеет то утешение, что оно, по крайней мере, было выслушано и отвергнуто не вследствие каприза, а вследствие того, что большинство нашло против него более сильные доводы. <...> Противники называют собрания представителей местом пустословия и разговоров. Едва ли когда выходила более неуместная шутка. Я не знаю, чем именно, как не разговорами, представительное собрание может принести больше пользы» [4].
Но коллегиальность правления, как подчеркивал Макс Вебер, сама по себе не имеет ничего общего с демократией [5]. Особенно если совещательные органы (менее или более формализованные в системе управления) комплектуются самим правителем. Соответственно, делиберация остается монополией (привилегией) ограниченного меньшинства.
Вклад демократии в культуру делиберации выглядит намного скромнее. В пределах еврохристианского культурного круга сама демократия как модус почти не практиковалась — разве что в эфемерных (чаще всего конфессиональных) очагах нонконформного самоуправления. Но в условиях модерна демократии уже не нужно было изобретать делиберацию. Она уже вполне сублимировалась в условиях «старого режима» [6], и ее только предстояло осваивать. Посмотрим теперь, как демократия с этой задачей справлялась.
Прежде всего: делиберация не была идеалом (проектом) демократического движения модерна. Демократы не только не знали этого слова (никто его тогда не знал), но и не думали ни о чем таком, что можно было бы теперь этим словом обозначить. Даже те, кто вслед за Руссо понимал демократию не как политическое устройство, а как естественный образ жизни и мечтал о возвращении к изначальной человеческой общности [7], больше уповали на ее спонтанное единодушие, чем на выработку наиболее обоснованного мнения. Массы же со своей стороны видели в демократии не более чем средство добиться материальных уступок со стороны господ («взять свое») и не имели ни малейшего представления об отправлении власти как профессии.
Но, как бы ни были мотивированы агентуры демократии с конца XVIII века, в условиях обострения социального конфликта после разрушения традиционного общества исторической миссией представительной демократии оказалось прекращение (предотвращение) смуты и насилия. Демократизация не сопровождалась устранением конфронтации. Она ввела конфронтацию в цивильные рамки, когда общество не было способно ни к какой делиберации. Как тогда каламбурили, «ballot, not bullets» [8]. Все выглядит так, что партийно-представительная демократия, скорее, оказалась альтернативой делиберации.
Первой жертвой этой диспозиции оказался парламент. После перенесения конфронтации с улицы в зал заседаний он теряет способность к коллегиальности, еще свойственную парламенту времен Милля (тоже уже сильно им идеализированному), и, стало быть, способность поддерживать практику делиберации. Делиберация в нем вырождается в обоюдную обструкцию сторон — чистой пропаганды в расчете на будущие выборы или риторической оркестровки внутрипарламентской интриги с целью добиться вотума недоверия правительству и досрочных выборов.
Зато появляется новый локус — политические партии, претендующие на власть, с их руководством как теневым (альтернативным) правительством. Эта практика очень нужна партиям, как когда-то коллегиальным тираниям. И — по той же причине конкуренции за власть — каждая агентура должна быть едина, если хочет длительно существовать и добиться успеха. Это единство может быть инстинктивно-изначальным (прототип — братство) или производным на базе осознанной общности интересов (материальных, эмоциональных и идейных), но эти узы солидарности неспособны долго держать вместе массивные множества. И если партийность добровольна, то партии не могут стать большими политическими силами только с помощью дисциплинирования своих рядов. Несогласные подчиняться будут просто их покидать. Не говоря уже о тех, кто обнаруживает свою партийность только на выборах, — они дезертируют по малейшему поводу. Меньшинства могут быть удержаны на орбите партии только участием в добросовестной делиберации. Большие партии власти всегда любят называть себя «широкая церковь», и это долго так и было в самом деле. Такова же была первоначальная ВКП(б). Ее делиберативная активность в 1920-е выглядит очень внушительно — вероятно, более внушительно, чем любой другой партии в Европе.
Постреволюционная ВКП(б) — вообще истинная жемчужина для политической теории. Она очень наглядно демонстрирует родство партий власти с коллегиальными тираниями. Она сама себя аттестовала как диктатура (пролетариата). Западная конкурентная демократия отличалась от нее тем, что в условиях многопартийности таких «тираний» было две (а то и больше) и они все время грозили друг другу смещением.
Но в обоих случаях внутрипартийная делиберация, называвшаяся (неудачно) в российском однопартийном варианте «внутрипартийной демократией»», оказалась обреченной на угасание — и через десять лет прекратилась совсем с уничтожением ее агентуры. Магистральный комментариат, не задумываясь, объявил это концом демократии. Между тем сама клика, захватившая власть, была искренне убеждена, что именно она обеспечивает «настоящую» демократию. И если отнестись к этому всерьез, то трудно отказаться от подозрения, что демократия в этом случае возобладала над делиберацией.
Многопартийные демократии демонстрируют ту же тенденцию, хотя ее труднее разглядеть в тумане гораздо более интенсивной и содержательной дискурсивной активности «западного» общества в условиях либерального габитуса. При новой конфигурации социального конфликта (смотри выше) большие партии власти уже не могут поддерживать свой рейтинг ни дисциплиной, ни делиберацией и уповают все больше — как и обыкновенные интересантские и самоопределительные партии и движения — на естественную (инстинктивную) корпоративную сплоченность «своих/наших», повязанных общим делом. Фракции в них остаются, но делиберацию в них вытесняет конфронтация — как в ВКП(б) в свое время.
Но, отмирая в самих органах власти, делиберация как необходимый элемент практики правления не атрофируется и находит себе другие локусы — например, вторые («верхние») палаты парламента. Вебер концептуализирует их как совещательно-консультативный беспартийный государственный совет [9]. Он характеризует их примерно так же, как Милль — английский парламент. Британская палата лордов, стилистически теперь более близкая к парламентскому идеалу Милля, дает некоторое представление о таком органе. Общественная палата Российской Федерации, до сих пор, кажется, никем не воспринимаемая всерьез, неожиданно может оказаться в этом плане гораздо более интересной инициативой, чем российский поддельный парламентаризм.
Другой орган делиберации — межпартийные парламентские комиссии, где разрабатываются обоснования политических решений и готовятся законопроекты. В работе комиссий участвуют все партии, представленные в парламенте, и делиберация — единственно возможный для них метод работы.
Наконец, еще один локус, где находит себе прибежище делиберация, — это бюрократический аппарат, хотя парадигма и строение его делиберации (то есть ее рационалитет) выглядят иначе, чем в других локусах.
Но все эти локусы — совещательные органы при демократически избираемой, но монолитной и безапелляционной власти. Функционально они аналогичны локусам делиберации при господской власти. Они даже используют те же самые институты (особенно «бюро»). Это, в сущности, реликты господского правления благодаря своей чистой совещательности и (это, наверное, еще важнее) благодаря тому, что они все больше монополизируют делиберацию, делая ее привилегией ограниченного меньшинства — делиберативной элиты, если угодно. Оседание делиберации в этих локусах ни в коем случае не ведет к делиберативной демократии. Их функциональность в условиях демократии именно в том и состоит, что они ее корректируют и ограничивают — к худу или к добру. Усиление их влияния и затем, возможно, полная эмансипация от политической власти означает, в сущности, поворот к экспертократии или элитократии любого иного рода. Как бы они ни культивировали практику делиберации и как бы ни были благорасположены к интересам масс, это господская власть... Как будто бы тупик? Не совсем.
В условиях демократии появляется — как совершенно неожиданное, хотя, глядя назад, абсолютно логичное ее порождение — еще один локус делиберации: многопартийная правительственная коалиция. Они у всех на виду, и в Европе практикуются уже давно, но до сих пор многопартийная коалиция не вызвала интереса в этом качестве. Остается незамеченным и необдуманным то, что именно коалиция — локус коллегиальности и, стало быть, делиберации par excellence. Вебер счел нужным упомянуть ее в своей разветвленной систематике форм коллегиальности [10]. Делиберация в них часто несовершенна и легко обрывается, а сами такие коалиции не сохраняются долго. Разные коалиции возникают и исчезают, но остается простое правило: нет делиберации — нет коалиции. Как только мы это заметили, коалиции выглядят уже не как патология демократии, а как указание на ее новое состояние в ходе ее непрерывной эволюции.
Дорога через этот эволюционный зигзаг тоже, конечно, может вести в сторону авторитарного правления. Долгая череда коалиций провоцирует антидемократические реформы и даже государственные перевороты, потому что неустойчивость коалиций ассоциируется с хаосом, что подрывает авторитет демократии и порождает антидемократическую реакцию при активной поддержке масс — правопопулистская реакция, уже имевшая однажды место между двумя эпизодами «тридцатилетней войны ХХ века» [11]. В лучшем случае это ведет напрямую в сторону экспертократии, как это регулярно случалось в Италии и только что случилось опять (нынешнее правительство технократа Марио Драги).
Но демократический вариант тоже вполне вообразим. Например, тематические и интересантские партии (движения) полностью вытеснят из политического пространства партии, ориентированные на весь электорат (catch all parties). И тогда избиратель будет сознательно участвовать в создании коалиций, особенно если его будет стимулировать к этому регламентация процедуры выборов. Такое впечатление, что в Германии это происходит уже сейчас, что особенно многозначительно, если вспомнить, во что выродилась такая же диспозиция в 1930-е годы. Или партии сами по себе ликвидируются совсем, а орган управления делами страны, как бы он ни комплектовался, выбирая тематику делиберации или даже принимая стратегические решения, будет по процедуре учитывать общественное мнение. Мнение это может выражаться в независимых или заказных опросах публики, равно как и официально учрежденных фокус-групп, инициативах интеллектуальных лобби («мозговые тресты») или петициях по образцу британской практики первой половины XIX века. Эта тенденция быстро нарастает уже сейчас.
В обоих вариантах делиберация окончательно вытесняет конфронтацию (конкуренцию), но не демократию, и на этом основании такой порядок может быть назван делиберативной демократией. При этом в первом варианте демократия остается представительной (косвенной); во втором случае — становится прямой.
Таким образом, если возможно и в самом деле желательно не вынужденное и неустойчивое совмещение делиберации и демократии, а их органическое и устойчивое единство, то путь к нему лежит через коалиционно-правительственную коллегиальность. Она появляется спонтанно, но, будучи творчески отрефлексирована, может сублимироваться и конституционализироваться. Сейчас или после временного возобладания авторитарной альтернативы. Навсегда ли — открытый вопрос.
Циклическая схема Аристотеля — Полибия (а точнее, ее цикло-поступательный вариант) позволяет думать, что не навсегда. И, если мы захотим воспользоваться этим представлением, мы сможем обнаружить иное содержание социогенеза вместо движения от господского правления к народному или в обратном направлении. Это содержание — экспансия делиберации. Словами Джона Дьюи: «Самое главное — поднять качество и улучшить условия обсуждения, дискуссии и аргументации общественного разговора. Это проблема “общества”» [12]. Сам Дьюи был убежден, что эта проблема может быть решена, только если в делиберации (общественном обсуждении — public debate, как он это называл) будут так или иначе участвовать массы, что будет означать становление демократии как образа жизни. Мы, пожалуй, можем сказать сегодня, что делиберация совершенствуется и ширится, возбуждая постоянные колебания архитектуры политического пространства — чистая демократия, элитократия или их смеси. До тех пор, пока этот маятник перестанет качаться и различение господского и народного правления потеряет смысл, поскольку на смену им обоим придет делиберация как образ жизни общества.
Александр Кустарев (р. 1938) — независимый исследователь, публицист. Сфера научных интересов — типология и эволюция политической сферы. Публиковался в журналах Pro et Contra (Фонд Карнеги, 1999–2014 годы), «Космополис» (МГИМО, 2002–2008 годы).
[1] J. Dewey. The Public and Its Problem. — New York, 1927.
[2] M. Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. — Tuebingen, 1985. S. 161–164. Вебер дает детальный обзор разных вариантов коллегиальности в третьем параграфе третьей главы первой части «Хозяйства и общества».
[3] N. Elias. Die höfische Gesellschaft. — Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969.
[4] Дж. Ст. Милль. Размышления о представительном правлении. — New York: Chalidze Publications, 1988. С. 74 (перепечатка с русского перевода 1863 года, изданного в Санкт-Петербурге).
[5] M. Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. S. 162.
[6] «Старый режим» (фр. l'ancien régime) — политический и социальный уклад во Франции с начала XVII века до начала революции 1789 года.
[7] Последние отголоски этого умонастроения — Парижская коммуна и русский левый популизм под лозунгом «Вся власть Советам».
[8] Этот каламбур можно приблизительно перевести как «вместо пуль — [выборная] пулька». «Пулька» — графа, куда вписывают результаты игры в преферанс; в широком смысле — графа в любом списке.
[9] M. Weber. Wahlrecht und Demokratie in Deutschland // Idem. Gesammelte Politische Schriften. — Tuebingen, 1988. S. 259–260.
[10] А именно как пример того, что он назвал «электоральной коллегиальностью» (Abstimmungskollegialitaet — буквально: голосовательная), коль скоро она может заключаться, хотя и неформально, уже до выборов.
[11] Автор называет так Первую и Вторую мировые войны (примеч. ред.).
[12] «The essential need, in other words, is the improvement of the methods and conditions of debate, discussions and persuasion. This is THE problem of the public» (J. Dewey. Op. cit. P. 208).
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
Литература Искусство
Искусство Литература
Литература Искусство
ИскусствоЛюбовь Агафонова о выставке «Ars Sacra Nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов»
14 февраля 20223305 Академическая музыка
Академическая музыка Искусство
Искусство Молодая Россия
Молодая Россия Театр
Театр Кино
Кино Современная музыка
Современная музыкаКак перформанс с мотетами на стихи Эзры Паунда угодил в болевую точку нашего общества. Разговор с художником Верой Мартынов и композитором Алексеем Сысоевым
10 февраля 20223600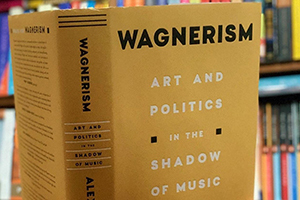 Литература
Литература Искусство
Искусство