 Литература
ЛитератураИстория о щеточке
 © The National Gallery, London
© The National Gallery, LondonОдно из главных интеллектуальных развлечений на Западе — это объявлять об очередном кризисе и ждать, когда же все наконец рухнет. Сегодня ожидание катаклизмов — природных, социальных, экономических — это стандартный рефрен в медиа любого идеологического окраса. Ученые под эгидой ООН пишут, что, если нынешнее положение дел продолжится, нас ждет неминуемый экологический коллапс с массовой миграцией и деградацией экосистем. НКО бьют тревогу из-за расцвета цифровой диктатуры. Автоматизация скоро якобы лишит миллионы людей рабочих мест, и непонятно, что именно с этим делать в эпоху экономического расслоения. Под параллельные разговоры о постправде и альтернативных фактах заодно с нападками на ученых и экспертов с их рациональностью и авторитетом кажется, что в этой каше все сложнее разобраться.
К тому же в эру всеобщей коннективности мы вдруг пустились во все тяжкие и начали тыкать друг в друга пальцами, вешать ярлыки и делиться на мелкие и крупные трайбы. Есть леволиберальная западная академия с ее критикой всех традиционных авторитетов, заботой о политике идентичности и борьбой против угнетения меньшинств. Есть неолиберальные глобальные элиты, вещающие об опасности левых и правых популистов. Есть, собственно, сами эти левые и правые популисты. И, конечно же, есть всадники политики идентичности разной степени легитимности: от радикальных феминисток до откровенно экстремистских альт-райтов.
В этом фрагментированном лабиринте у многих возникает тоска по утраченному смыслу, устойчивому основанию, с самой идеей которого радикально порвала наша глобальная постмодернистская реальность. В этой кризисной ситуации начинает казаться уместным вопрос: можно ли воскресить какой-нибудь заслуженный метанарратив, объединяющий всех и каждого, приодеть его, причесать и вывести к народу? То есть проверить пульс у самой идеи универсализма.
* * *
Именно эти интуиции приводят сегодня к актуализации идеалов Просвещения, и пока в популярной культуре самым осязаемым результатом этого процесса стала последняя работа канадского психолога Стивена Пинкера «Enlightment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress» — книга, ожидаемо ставшая бестселлером The New York Times и покорившая сердце самого Билла Гейтса. Пинкер, известный своим оптимизмом, подкрепленным массивным набором данных, пытается дать в ней вразумительный ответ всем тем, кто — что справа, что слева — пугает экологическим и экономическим Судным днем и пытается оспорить примат научной рациональности.
В центре нарратива Пинкера — Просвещение как некая монолитная эпистемологическая система, которая родилась с картезианским сомнением и заматерела с развитием естественных наук. Пинкер говорит о «грехе неблагодарности», ставшем отличительной чертой эпохи: в то время как мы побеждаем оспу и нищету, разговоры о конце цивилизации становятся только громче. Что надо делать? Для Пинкера, адепта хардкорного сциентизма и позитивизма, ответ очевиден: для начала надо все посчитать.
Пинкер предлагает взглянуть на данные по ключевым характеристикам жизни человечества, так что в итоге книга содержит несколько десятков графиков, наглядно демонстрирующих, что жаловаться в общем-то нечего. Например, схема, отражающая рост продолжительности жизни, показывает, что если в XVIII веке ее средний показатель в мире составлял 29 лет, то в 2015 году — 71,4. Детская смертность? В Африке еще в 1960-е умирал каждый четвертый ребенок, сегодня — только каждый десятый. И если в 1820 году 90 процентов населения планеты жили в нищете, то сейчас эта цифра снизилась до каких-то 10 процентов.
Пинкер предлагает остановиться и подумать над тем, какие идеалы дали человечеству так продвинуться. Впрочем, здесь достаточно взглянуть на название книги и увидеть нужные слова: разум, прогресс, наука и гуманизм. Именно Просвещение породило строгий научный метод, который, если верить утилитаристу Пинкеру, оказался применим не только к изучению одной природы, но и к традиционным человеческим головоломкам: что есть мораль, как организовывать общество. Проще говоря, общество, шаг за шагом применяющее научный подход к решению человеческих проблем, определенных полем повседневного гуманизма (борьба с заболеваниями, голодом, недостатком образования), движется хорошо освещенной дорогой прогресса.
Кто тогда виноват в постоянных кризисах модерна — и сегодняшнего дня? Для Пинкера это всадники контр-Просвещения с их «-измами» типа национализма, материалистической диалектикой, философией истории и сверхчеловеками. Если принимать эту обрисованную Пинкером манихейскую картину, то что марксизм, что любая форма национализма оказываются враждебными духу Просвещения — оба этих «-изма» пытаются спустить сверху свое идеалистическое видение того, что есть действительное благо, справедливость и добродетельная жизнь. (Впрочем, книга Пинкера в этом пункте довольно быстро была раскритикована. Так, Джон Грей в New Statesman напоминает о том довольно очевидном факте, что марксизм-ленинизм был до мозга костей просвещенческим продуктом.) Не надо, считает Пинкер, никаких лишних легальных, принудительных и моральных рычагов: все это не дает обществу спонтанно развиваться под бдительным оком научной рациональности.
Наконец, Пинкер делает еще один смелый жест и ставит знак равенства между Просвещением, доктриной laissez-faire, утилитаризмом и, само собой, капитализмом. В этой картине мира свободное применение разума оказывается в одной связке со свободным рынком. Именно рынок оказывается той питательной средой, в которой произрастают все научно-технические чудеса, помогающие человечеству облегчить страдания.
И хотя Пинкер время от времени заявляет, что не стоит думать, будто прогресс наступит сам по себе, да и рынки стоит, пожалуй, кое-где регулировать, в тексте то и дело сквозят мотивы хайековского спонтанного порядка — когда общество и его системы складываются и функционируют без чьего-либо контроля, органичным образом, хотя и с оглядкой на общие правила игры. Например, те же климатические беды можно будет непременно преодолеть с помощью технических уловок, которые возникнут сами по себе в результате все той же свободной рыночной деятельности. Главное — не вмешиваться сюда со своими большими идеями, философией истории и диалектикой.
Не случайно взрывоопасная сегодня тема экономического неравенства Пинкером отодвигается на задний план: он прямо говорит, что неравенство не является «измерением человеческого благополучия», и приводит в пример «слона Милановича» — график сербского экономиста Бранко Милановича, согласно которому в период активной неолиберализации с 1988 по 2008 год глобальное неравенство по факту снизилось: хотя западный средний класс просел, а пресловутый один процент наварился, все компенсируется тем, что бедные страны начали догонять богатые. Однако изменения в абсолютном уровне доходов показывают иную картину: по данным Oxfam, доходы у одного процента выросли в 65 раз больше, чем у беднейшей части населения.
Более вульгарную и YouTube-friendly версию подобной мифологизации Просвещения можно найти у другого канадского психолога Джордана Питерсона, прославившегося своими видеолекциями и отказом использовать гендерно-нейтральные местоимения в Торонтском университете. Несмотря на безвестный до недавнего времени статус Питерсона, сегодня особенно громкие комментаторы называют его в медийной горячке не иначе как самым влиятельным публичным интеллектуалом современности.
По многим ключевым пунктам он вторит Пинкеру — для этого достаточно взглянуть на их беседу по скайпу. Он в меньшей степени открыто говорит о Просвещении, но он так же пытается воскресить универсальную картину мира, где открытый Просвещением свободный индивид героически противостоит любым клановым поползновениям. Питерсон называет себя классическим британским либералом, однако в итоге оказывается либералом гиперболизированным, загоняя свое Просвещение в рамки радикального хищнического и маскулинного индивидуализма. Вооружившись эволюционной и поп-психологией, поданной как кульминация научной рациональности, и отчасти заимствованной у Юнга пачкой мифических и архетипических историй и героев, в своем бестселлере «12 Rules for Life: An Antidote to Chaos» Питерсон пытается показать, что идея индивида, противопоставленного коллективу и коллективному вообще, всегда была в центре западной цивилизации. Как он пишет, «мы можем выйти за пределы рабской привязанности к группе и ее доктринам и одновременно избежать ловушки противоположной крайности — нигилизма. Мы можем найти достаточно смысла в индивидуальных сознании и опыте».
Хаос, обозначенный в заглавии книги, — это и есть торжество групповой идентичности, с которой Питерсон активно борется офлайн и онлайн. А необходимым антидотом выступает этика персональной ответственности. За что? В принципе, за все подряд: life is a bitch, расправь плечи шире, возьми быка за рога и перестань жаловаться на все вокруг. В качестве же (псевдо)научной аналогии для этого Питерсон предлагает выбрать биологически детерминированную модель поведения лобстеров, которые борются друг с другом за лучшее место под водой и, разумеется, за лучших самок. И хотя Питерсон не отрицает возможности кооперации и солидарности, в основе всего социального порядка, по его мнению, в любом случае лежит попытка дать пинка соседу, потому что так завещала природа. Простая редукция к неизменным законам, таким же незыблемым, как прогресс у Пинкера, даст возможность выйти из тупика современности.
* * *
Понятно, что главной мишенью этого «нового Просвещения» и универсализма служит политика идентичности, которая является для Пинкера с Питерсоном примером чудовищного упрощения: вот я, меньшинство, вот ты, привилегированный такой-то, не смей высказываться обо мне и моем опыте. Так, в какой-то момент, скажем, белому человеку запрещается говорить об опыте чернокожего, то есть они оказываются фатально разделены.
Но самой интересной точкой соприкосновения взглядов Пинкера и Питерсона становится открытая неприязнь к политике как таковой: хоть к официальной, хоть к уличной. Пинкер открыто объявляет политизацию «главным врагом разума», а Питерсон предлагает сначала прибрать комнату (найти работу, купить квартиру, нужное подчеркнуть) и уже потом изменять мир или даже заикаться об этом.
Здесь уместно сделать паузу и обратиться за необходимыми аналогиями к анализу Просвещения, предпринятому немецким историком идей Райнхартом Козеллеком. В своей известной работе «Критика и кризис» он показывает, как социально-политическая мысль Просвещения постепенно покидала пространство политики и превращалась исключительно в моральную критику, напрямую озабоченную только нравственным развитием подрастающего буржуазного общества. Ссылаясь на авторов от Бейля до Руссо и от Лессинга до Шиллера, Козеллек показывает, как Просвещение постепенно переводило вопросы организации общества и государства из сферы реальной политики в этическую плоскость. И эта моральная критика сознательно надевала на себя аполитичную маску нейтральности.
Точно так же лелеемая Пинкером идея прогресса призывает не терять веру в то, что на политическом уровне все как-нибудь образуется само. Не зря же Пинкер указывает, что каждое следующее западное поколение оказывалось толерантнее и демократичнее предыдущего. В этом случае популистская угроза — это случайность, непонятный баг в надежной системе морального прогресса человечества: все встанет на свои места, когда все расисты попросту вымрут.
Но Козеллек напоминает про конкретный политический смысл и предметные политические последствия такой позиции. Отрицание мира привычной политики является само по себе радикальным политическим жестом и высвечивает глубокий политический кризис. Прикрываясь почтенной нейтральностью, ретрансляторы «нового Просвещения» не утруждают себя мыслью о том, что их универсалистская программа неизбежно существует во фрагментированном политическом мире. Их модель просто не оставляет места для вопросов, касающихся публичной политики, социальных конфликтов и всех сложностей, о которых мы снова резко вспомнили после того, как пароход неолиберальной постполитики налетел на популистский айсберг. Она становится поводом отвергнуть проект новейших социальных движений, перестать говорить о злоупотреблениях властью и сосредоточиться на судьбе человеческого лобстера. Вопрос, какими могут быть механизмы медиации новейших конфликтов, как их рационализировать и привести в божеский вид, попросту не поднимается. «Новое Просвещение» в своей сердцевине оказывается проектом негативности. Но закрыть глаза на конфликты ценностей и интересов и укрыться покрывалом из таблиц и графиков здесь так просто не получится.
* * *
Политика идентичности в ее радикальных вариантах действительно обособляет. Социалистический журнал Jacobin выдал пару характерных текстов, призывающих к преодолению того, что Эрнесто Лаклау называл логикой апартеида среди угнетенных, — запихивания себя и своих камрадов в не самое уютное гетто, где возможен только монолог через мегафон, а не межгрупповая политическая коммуникация, а вместе с ней и политическое действие.
Один из основателей журнала Viewpoint Шуджа Хайдер даже описывает, как язык политики идентичности стал движущей силой белых националистов, ведомых пресловутым альт-райтом Ричардом Спенсером. Для Спенсера левый проект дробления на не соприкасающиеся друг с другом этно-расовые идентичности должен достичь своего максимума — чтобы породить полноценное идентитарное белое сообщество, в котором занимаются производством белых отпрысков, а не чужеродной йогой. Леволиберальная политика идентичности несравнима с программой белых националистов, но легко с ней совместима — и один этот факт должен вообще-то толкнуть прогрессивные силы на поиск универсалистской альтернативы.
Упомянутый выше Лаклау любил говорить об универсализме как о заведомо обреченном, но необходимом политическом проекте. Он обречен, потому что конфликтность политических дискурсов и программ всегда будет подрывать его изнутри. И все-таки он нужен, иначе общество в один прекрасный день погрязнет в психозе и фрагментации и тогда ни о каком обществе речь идти не будет.
Но каким сегодня может быть универсализм? Сразу после победы Трампа в The New York Times прогремела колонка политического философа Марка Лиллы с красноречивым названием «The End of Identity Liberalism» — где, как и в последующей книге «The Once and Future Liberal: After Identity Politics», Лилла обрисовывает контуры своего «постидентитарного либерализма». Его главной ценностью служит универсализированное понимание гражданственности (we are Americans!) со всеми вытекающими обязанностями, которые должны сбалансировать необузданное требование новых и новых прав растущими как на дрожжах идентичностями. Его универсализм — это универсализм базовых свобод и демократической культуры, которая посвящает себя их сохранению, иногда и в ущерб требованиям политики идентичности.
Впрочем, идея такого «конституционного патриотизма» пришлась по вкусу далеко не всем. В своей рецензии для Boston Review известный философ права Сэмюэл Мойн пеняет на то, что универсальный гражданский национализм Лиллы оказывается таким же абстрактным, как аполитичное Просвещение Пинкера и Питерсона, — хоть он и в разы умнее и элегантнее. Чтобы работать, он должен быть заполнен конкретным контентом. Каким? За него в демократическом и околодемократическом (типа русского) мире отвечает, например, посткризисное политико-экономическое смятение с целым рядом структурных дисбалансов власти.
Вот один пример. Лилла поддался тому же греху, что и Пинкер с Питерсоном, — во всех бедах винить левую академию: удобный вид блейминга. Может, вместо этого стоит посмотреть на политический и социальный контекст внутри той же академии: например, прикинуть, как истерика вокруг «зон безопасности» в университетах и кампанейщина против неугодных консервативных (и не только) профессоров связаны с коммерциализацией высшего образования, размытием границ между студентом и потребителем и нереальными суммами студенческого долга, которые обеспечивают нынешнее поколение студентов головной болью и нервотрепкой на долгие годы вперед? Не левые академики одной рукой сворачивают программы велфера, а другой дают больше власти силовым структурам (сценарий, с которым очень хорошо знакомы в России). Например, для Jacobin такой универсализм, конечно, приводит к вопросу о том, какого черта состояние Джеффа Безоса, владельца Amazon, оценивается в 150 миллиардов долларов, а рабочие его складов вынуждены пользоваться талонами на еду от правительства.
Когда популярные говорящие головы рассуждают об актуализации Просвещения, они упускают тот факт, что универсализм не может быть сегодня бетонным монолитом с выбитыми на нем именами Спинозы и Канта. Универсализм, который не действует по сегодняшней ситуации, сегодня не будет признан универсальным. Посткризисная стагнация и прогрессирующее неравенство и являются той почвой, изнутри которой должен родиться новый универсализм.
В конечном счете, когда Пинкер и другие достопочтенные центристы занимают позицию морального арбитра и клеймят (иногда по делу) всех вокруг за прогрессофобию, они не только невольно сигнализируют о кризисе, которого якобы не должно быть; они этот кризис усугубляют, потому что отговаривают коллективно придумывать политический ответ на эту реальность. Как и для просветителей Козеллека, политика здесь всегда оказывается грязной, а власть — всегда злоупотреблением.
Однако именно интеллектуальный абсентеизм такого рода и является идеальной средой обитания для демагогов, повернутых на самой радикальной политике идентичности — типа защиты белых от мексиканских насильников, возрождения христианской Европы или массовой раздачи духовных скреп. Отказываясь от признания своей политической мотивации, делая лишь ссылки на научность и морализм, такой «универсализм» оголяет политику и открывает ее для фрик-шоу с непредсказуемыми последствиями. Настоящим промоутером фрагментации и дробления оказывается тот, кто отказывается думать о том, что мы все в одной лодке и с этим надо что-то делать.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
Литература Театр
Театр Литература
Литература Искусство
Искусство
Победительница берлинского Encounters рассказывает о диалектических отношениях с порнографическим текстом, который послужил основой ее экспериментальной работы «Мутценбахер»
18 февраля 20221677 Общество
ОбществоКирилл Медведев о частном случае борьбы москвичей против девелоперов — который ведет к более широким вопросам локального активизма
18 февраля 20223582 Академическая музыка
Академическая музыка Театр
Театр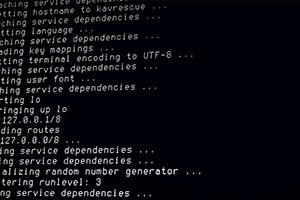 Общество
Общество
Андрей Мирошниченко о том, как цифровые медиа соблазняли человека, привыкшего к книгам
17 февраля 20223806 Colta Specials
Colta Specials Искусство
ИскусствоВасилий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»
16 февраля 20223656 Театр
Театр