 Литература
ЛитератураИстория о щеточке
 © ГЦСИ УРАЛ
© ГЦСИ УРАЛВ рамках IV Уральской индустриальной биеннале на прошлой неделе прошел симпозиум, посвященный новой грамотности в эпоху высоких технологий. Митя Лебедев поговорил уже для Кольты с его участниками Гертом Ловинком и Львом Мановичем.
На очереди — Юк Хуэй, гонконгский философ технологии, компьютерный инженер и автор книг «On the Existence of Digital Objects» и «The Question Concerning Technology in China», ученик и последователь знаменитого французского философа техники Бернара Стиглера, вместе с которым Юк работает сейчас над альтернативной архитектурой социальных сетей.
— Ваша работа продолжает философскую традицию XX века, которая пытается преодолеть антагонистическое отношение к технологиям. При этом живем мы в мире, где технологии стали главной культурной доминантой.
— Представление о том, что техника — это деструктивная сила, которая насилует матушку-природу, существует с XVIII века. С другой стороны, мы имеем дело с повсеместно господствующей утилитарной концепцией технологий, в которой технологические объекты всегда определяются исключительно их функционалом. В культуре это выражается, например, в оценке технологий как чего-то рабского: скажем, роботы — это всегда рабы. Сейчас эта мысль постоянно воспроизводится в новейших дискуссиях об автоматизации: вот роботы будут работать за нас 24 часа в сутки, в отличие от людей, ни на что не жалуясь. Но проблема состоит в том, что, когда мы рассматриваем технологии таким образом, мы продолжаем существовать в чужом мире. Именно это Маркс называет отчуждением, от которого мы не в силах избавиться.
— Тексты Кристиана Фукса и Ника Дайер-Уизефорда описывают, как цифровые технологии формируют армию киберпролетариата, чьи когнитивные способности капитализируются сетевой экономикой. Все эти фриланс-программисты, контент-модераторы, клик-фермеры в Китае, занятые производством лайков за гроши, и кто только не.
— Верно. В индустриальную эпоху человек должен был брать сырье, ставить его на конвейер и синхронизироваться потом с производственным процессом. И это описанное Марксом отчуждение не ушло в прошлое: многие высокотехнологичные фабрики в Китае работают по такому же принципу. Рабочие не могут наделить эту деятельность смыслом, а это приводит к росту суицидов.
Если мы — только операторы, если мы знаем, что при загорании зеленой лампочки нам нужно нажать конкретную кнопку, мы отрезаны от процесса изобретения и производства, то есть отчуждены. Еще в индустриальную эпоху рабочим всегда противостояли обладатели технического знания, ученые и инженеры, способные разработать новую машину. Но эта поляризация происходит от неверного понимания, что такое техника. Потому что знание машины — это тоже способ продолжить процесс ее изобретения.
Что касается марксистской критики цифрового труда, то она оправданна, но часто проблематична. Если Маркс смотрит на отчуждение как политэконом, то Жильбер Симондон (французский философ, создатель философии техники. — Ред.) говорит нам, что в корне всего — именно проблема самого понимания техники. Мы не сможем разобраться с фундаментальным вопросом отношений между человеком и машиной до тех пор, пока машина будет редуцирована до экономической категории. Нам нужно думать о значении, о смысле этой деятельности человека.
С приходом цифровых технологий отчасти происходит открытие технического знания «простым пользователям». Например, мы сами изучаем какой-нибудь фотошоп. Но эти инструменты становятся тоже все более абсурдными и консьюмеристскими. Новый айфон устареет за год, в Германии дешевле купить себе новый принтер, чем починить старый. Шумпетер (австро-американский экономист, исследователь капитализма. — Ред.) называл такие процессы «созидательным разрушением», то есть метаболизмом капитализма, которому для собственного выживания всегда необходимо что-то уничтожать.
— Так называемый капитализм платформ, то есть централизация соцсетей вокруг международных гигантов типа Facebook или Twitter, которые автоматически уничтожают более мелкие сетевые возможности, — это новый виток такого созидательного разрушения?
— Да, то, что сегодня называется капитализмом платформ, — это пример такого внутреннего кризиса капитализма, который порождает новые экономические модели и уничтожает старые. Сидя на Фейсбуке, многие из нас в принципе не переходят на другие сайты. Airbnb — крупнейшая отельная сеть без отелей, Uber — крупнейший оператор такси без таксопарка, и обе компании выводят из игры привычные индустрии с целью производства капитала.
А новым двигателем этой модели являются данные. Недавно The Economist вышел с обложкой про то, что главный источник энергии — уже не нефть, а именно данные. И платформы систематично превращают все формы социального в товар. Помимо прочего это приводит к тому, что мы оказываемся внутри того, что Жиль Делез называет «обществом контроля». Каждый индивид — это источник производства данных, что приводит к сочетанию двух как бы противоположных феноменов: ощущения свободы в цифровой системе и глобальной слежки. На Фейсбуке вроде бы можно делать почти что угодно, но эта деятельность всегда находится под контролем.
— При этом глобализация идет отнюдь не плавно. Мы видим, как страны вроде России и Китая продолжают использовать риторику национального суверенитета, когда дело касается технологий. Один из свежих примеров — государственная стратегия развития искусственного интеллекта в Китае и в России.
— Если мы вспомним Карла Шмитта, то у него суверенитет всегда был вопросом территории. Сегодня цифровые технологии меняют эту ситуацию, но сложно сказать — насколько. Великий китайский фаервол был попыткой создать суверенитет внутри глобального киберпространства. Но Китай это сделал просто потому, что без фаервола не было бы AliBaba, WeChat и все использовали бы Facebook вместо Baidoo. Это было сохранением суверенитета как бизнес-инкубатора для китайской индустрии.
Или возьмем Трампа, который утверждает, что хочет вернуть в Америку производство. Единственный способ это сделать — развитие автоматизации. Если Штаты полностью автоматизируют производство, рабочие места в Китай не уйдут, потому что производить товары будет дешевле в Америке, это простая экономическая идея. Так что вопрос национального суверенитета сегодня — это действительно вопрос технологической конкуренции. И в следующую декаду мы увидим масштабную технологическую конкуренцию между национальными государствами. Ее зачатки видны и сегодня: та же упомянутая стратегия развития искусственного интеллекта.
— Ваш учитель — философ Бернар Стиглер постоянно говорит о том, что новая технологическая реальность, несмотря на свой мощнейший потенциал, стала эпохой глупости: потребления и потери культурных смыслов, преемственности. При этом технологический дискурс всегда вертится вокруг понятия smart: «умные» города, «умные» дома, «умные» тостеры.
— В Китае каждый город хочет быть «умным», существует специальная госпрограмма по развитию «умных» городов. В Корее этого еще больше. Там пути в метро отделены от платформы гигантской дверью, которая на деле оказывается гигантским экраном, на котором, пока ты ждешь поезда, ты можешь заказать себе с помощью смартфона еду из супермаркета, которая будет ждать тебя дома. Недавно мы с японским писателем и философом Хироки Адзумой сидели в кафе, где люди заказывают со смартфона себе суши, потом к тебе подъезжает тележка с едой, что упраздняет роль официанта. Под «умом» всегда подразумевается автоматизация сервисной экономики или развитие алгоритмических предсказаний, которые тоже призваны умерить или улучшить потребление. И как раз поэтому «умные» технологии — часть сегодняшней глупости. Их огромный потенциал сводится к консьюмеризму, который понимается как единственный вариант их использования. Ну, и конечно, этот сценарий глубже загоняет нас в общество контроля.
 © ГЦСИ УРАЛ
© ГЦСИ УРАЛ— Давайте поговорим о том, как должно меняться образование. Сегодня крупные корпорации из Силиконовой долины вкладываются в публичное образование гораздо активнее, чем прежде.
— Да, например, Google University, который, по сути, готовит разработчиков для Google, учит использованию API и всевозможных сервисов компании. А альтернативой должны стать программы, в которых сочетаются инженерия и гуманитарные науки. Это было бы обновленным проектом того, что называется liberal arts. Если сегодня вы идете в гуманитарный институт, вы не получаете никакого технического знания, вы изучаете классику, историю, психологию, философию и так далее. С другой стороны, когда я был в инженерной школе, мы изучали только прикладные вопросы: инженерия и законодательство, инженерия и экономика. Но этого недостаточно для развития критического мышления о технологиях. Мы должны предложить гораздо более широкий концепт технического знания и развивать педагогическую парадигму, в которой техническое знание — это не просто знание юзера. Технологическое знание не может быть исключительно рациональным. В противном случае мы продолжим жить в ситуации, когда гуманитарные и технические науки разделены.
— В прошлом году издательство Urbanomic выпустило вашу книгу «The Question Concerning Technology in China», в которой вы развиваете концепцию космотехники. Что это за идея и как технологии связаны с представлениями о космосе?
— Концепция космотехники предполагает, что мы создаем не какой-то однородный тип технологий, а разные культуры присваивают, а потом развивают технологии в соответствии со своим представлением о космосе и человеке. Например, в Китае самобытное развитие техники остановилось в XVI веке, за этим последовали только заимствования европейских технологий. Это говорит о том, что мы имеем дело с двумя разными концептами техники: у нас разные эпистемологии и эпистемы, и я назвал эти эпистемы космотехникой.
Сегодня мы живем в антропоцене, а антропоцен — это реализация смерти космоса как цельной картины мира и места человека в нем. Раньше представления о космосе основывались на мифах, но сегодня картина мира математизирована. Вместо мифа мы имеем дело с калькуляцией, а отношения с космосом заменены желанием его исследовать. Причем это желание объяснить не так просто. Сначала оно работало как технологическое бессознательное, давшее старт колонизации мира, а потом и колонизации космоса, но сейчас оно стало осознанным, рационализированным. Программы исследования космоса сегодня подразумевают, что Земля — это искусственная планета, а космос — это такая гигантская кибернетическая система, механизированная, контролируемая по кибернетическому принципу обратной связи.
В основе этих идей лежит представление о технологии гомогенного характера. Когда я говорил о суверенитете, то уже упомянул, что нас ожидает серьезная технологическая конкуренция между странами. Но вопрос в том, какие технологии будут развиты. Скорее всего, это будет гомогенный тип технологий: искусственный интеллект, освоение космоса и т.д. Мы движемся по направлению к воображаемой технологической сингулярности и таким образом неизбежно оказываемся в деполитизирующей парадигме трансгуманизма. Апологеты технологической акселерации вроде Питера Тиля и Илона Маска ратуют за бесконтрольное развитие технологий и завязанной на них экономики. Для них политика с ее государственными комитетами по этике — это только тормоз для такого развития.
— Российского читателя вашей книги о технологиях в Китае наверняка заинтересует внимание к работам Александра Дугина.
— Дугин интересен тем, что он — хайдеггерианец, но при этом грустный хайдеггерианец. В нем присутствует хайдеггерианский экзистенциальный пессимизм, и в качестве антидота он пытается переизобрести русскую традицию в отрыве от современных технологий. Для Хайдеггера, как мы помним, технологии — это источник «неукорененности» культуры. В своих «Черных тетрадях» он пишет, что европейцы стали туристами. В таком случае весь процесс модернизации — это устранение культурных корней. Дугин же предлагает переизобретение русской традиции как эпистемы. Вообще-то в этой идее есть смысл, но проблема Дугина в том, что он не может примирить современную технологию и традицию и поэтому просто действует в русле обычного реакционного традиционализма. А нам нужно избегать и метафизического фашизма с традиционализмом по типу Дугина, и гомогенного развития технологий в сторону сингулярности. Для этого необходимы новая концепция техники и новая технологическая культурная программа. Проблема в том, что мир стал слишком однородным и мы поэтому не можем создать себе образ будущего.
Вообще я не традиционалист, хотя и ценю множество традиций. Но традиции мы должны освободить от национализма и одного из его следствий — наживающихся на традициях культурных индустрий. В Китае, например, есть деревни со своим традиционным промыслом, но эти регионы превращаются в гомогенные индустриальные зоны, которые производят единственно этот продукт. Десубстанциализация традиций — это превращение их в техническую деятельность в ином режиме, нежели простое использование. У древних технологическая активность — например, рыбалка — всегда была подчинена картине мира с ее символами и связью с природой. Она была формой чувственности, особого отношения к космосу. В XVIII веке эта модель разрушается, и сегодня нам нужно присвоить себе обратно современные технологии, сделать их осмысленной частью более цельной картины мира. Так мы сможем сохранить культурную преемственность без ухода в традиционализм.
— Когда вы говорите о «присвоении» современных технологий, то в каких все-таки терминах мы должны это понимать? Очевидно, что это политическая, но при этом не марксистско-ленинистская программа.
— «Присвоение» я понимаю как принятие современных технологий, чтобы сделать их функцией нас самих и, таким образом, функцией разума. Это проект, отличающийся и от простой негативной критики технологий, и от идеи использования их с новой целью, когда, например, Фейсбук используют для продвижения социальных проектов. Присвоение в данном случае — это оспаривание представления о том, что индустриальные технологии — единственные возможные, а не один из многих способов применения технических знаний.
Скажем, тот же Фейсбук — это только одна модель построения социальных отношений на основе протокола Open Graph и социометрии Якоба Морено, которая рассматривает общество как собрание изолированных индивидов-атомов. Но индивид — это всегда еще часть коллектива. Именно поэтому мы с Бернаром Стиглером и Гарри Гальпином пытаемся создать новую модель социальной сети, которая отражала бы другую структуру социальных отношений. Этот проект организован при парижском Центре Помпиду и спонсируется американским Офисом военно-морского исследования. В отличие от Фейсбука, главной социальной единицей в этой новой модели соцсети выступает не индивидуальный пользователь, а группа. Пользователь получает возможность использовать все функции сети, как только вступает в группу. Но это не похоже на группы в Фейсбуке, последние работают по тем же функциям, что и индивидуальные страницы, это не коллаборативные пространства. Мы стараемся в эти группы нового типа интегрировать такие инструменты, как коллективное письмо (похожее по типу на Hackpad) и коллаборативный тегинг для организации информации, и много других инструментов, которые можно бесконечно развивать в зависимости от области их применения. Такая сеть гораздо лучше Фейсбука подходит для производства нового знания и работы над ним, скажем, для совместного изучения Хайдеггера в университете. Это совсем другая эпистемология. Здесь дизайн и технологии становятся политической программой, они проблематизируют формы социальности; в противном случае они превращаются просто в средства капитализации.
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
Литература Театр
Театр Литература
Литература Искусство
Искусство
Победительница берлинского Encounters рассказывает о диалектических отношениях с порнографическим текстом, который послужил основой ее экспериментальной работы «Мутценбахер»
18 февраля 20221662 Общество
ОбществоКирилл Медведев о частном случае борьбы москвичей против девелоперов — который ведет к более широким вопросам локального активизма
18 февраля 20223545 Академическая музыка
Академическая музыка Театр
Театр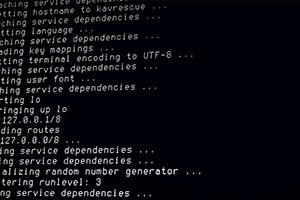 Общество
Общество
Андрей Мирошниченко о том, как цифровые медиа соблазняли человека, привыкшего к книгам
17 февраля 20223772 Colta Specials
Colta Specials Искусство
ИскусствоВасилий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»
16 февраля 20223621 Театр
Театр