 Colta Specials
Colta SpecialsБез будущего
 © Alberto Novelli / Accademia Tedesca Villa Massimo Roma
© Alberto Novelli / Accademia Tedesca Villa Massimo RomaКак известно, музыкальные партитуры по той или иной причине иногда остаются незавершенными, а иногда даже совсем ненаписанными. «Реквием» Моцарта, «Турандот» Пуччини, «Предварительное действо» Скрябина. Что с ними делать потомкам? Завершать или не завершать? И если да, то насколько самоуничижительно? Юлия Чечикова поговорила на эту узкую тему, при ближайшем рассмотрении вырастающую до проблемы наших взаимоотношений с классикой, с композитором Антоном Сафроновым, на счету которого несколько подобных работ, в том числе окончание «Неоконченной» симфонии Шуберта.
— Предпринимая попытку привести к законченной форме чужое произведение, композитор не только задается целью совершить своего рода подвиг в музыковедении. К чему еще направлены его устремления?
— По-моему, работа композитора над чужими произведениями меньше всего относится к музыковедению, нацеленному на бесстрастную объективность. Многие подобные опыты, предпринятые музыковедами, производят, честно говоря, довольно тусклое впечатление. Они бывают часто лишены вдохновения и «авторского намерения».
У композитора другой склад мышления и чувствования. Он загорается личностью автора, с которым его свела судьба. Не могу говорить от имени всех, но когда я сам занимался «окончаниями неоконченного», меня влекло желание войти в музыкальную подкорку автора, ощутить и пропустить через себя все то неповторимое, чем обладает не абстрактно понятая «стилистика», которой обычно удовлетворяется музыковед, но индивидуальная авторская речь, и постараться продолжить начатую, по каким-то причинам прерванную им мысль.
Подходы могут быть самыми разными. Завершая произведение чужого автора, можно стремиться к слиянию с ним — желательно так, чтобы никто не мог определить на слух, где кончается оригинал и начинается чужая рука. Большими удачами в этом смысле я считаю завершение «Реквиема» Моцарта Зюсмайром или «Лулу» Берга — Фридрихом Церхой. Особенно это касается произведений, где автор наметил достаточно материала, чтобы можно было просто реконструировать — или, если угодно, экстраполировать — все то, что он по каким-то причинам не довел до конца сам.
Другой возможный путь — диалог с автором на своем собственном языке. Это может быть и намеренный контраст, даже полемика с авторским высказыванием. Типичный пример — «Rendering» Лучано Берио по эскизам к несостоявшейся симфонии Шуберта. Либо — продолжение авторской мысли уже на собственном языке. Как «Лазарь» все того же Шуберта, завершенный Эдисоном Денисовым.
— Как должен поступить композитор, если его великий предшественник на бумаге оставил только незначительную часть материала?
— Конечно, бывают такие феноменальные случаи, когда в основе произведения — авторский замысел, от которого сохранилось лишь несколько эскизов (как «материальная составляющая»), а все остальное — священная мифология вокруг него. Уникальной в этом смысле мне кажется версия «Предварительного действа» Скрябина, созданная композитором Александром Немтиным. Этому грандиозному замыслу он посвятил несколько десятилетий своей жизни. Весной этого года полная версия наконец прозвучала в Москве под управлением Владимира Юровского. Это не столько даже окончание или реконструкция, сколько своего рода «рекомпозиция». От Скрябина там лишь темы его поздних произведений и воплощение в музыкальную «плоть и кровь» гармонических набросков, сделанных в последние годы жизни, притом весьма схематично изложенных. В результате получилась длящаяся почти три часа музыка для фортепиано, оркестра, женского голоса и хора. По сути все это уже работа Александра Немтина, но написана она «по Скрябину» и, что еще важнее, скрябинским языком. В своем роде это гигантское протяжение во времени скрябинского материала с многочисленными кульминационными подъемами и спадами. Это пример настоящего творческого, религиозного подвижничества, когда автор полностью посвящает свою жизнь чужому замыслу — музыкальному и идейному — вплоть до самоотречения. Кого-то такой результат может убеждать, кого-то — нет. Но достойны уважения уже сам замысел и величие этого труда.
Вполне возможно, что, застряв на середине симфонии, Шуберт испытал то же самое ощущение, что и страус, когда прячет голову в песок после громкого удара, который сам же и произвел.
— Эксперименты с завершением неоконченных произведений порой остаются только разовыми спецпроектами. Какие механизмы должны сработать, чтобы «новое» произведение вошло в широкую концертную практику? Зависит ли это только от композитора?
— Я думаю, как ни печально, это зависит далеко не только от композитора. В наше время это связано во многом с тем, поверили ли в него исполнители и концертные менеджеры. Композитор может написать, кстати, и неудачное произведение. Но если по каким-то причинам оно будет нужно людям, «которые решают», эта музыка начнет звучать в концертах. И соответственно — наоборот.
«Спецпроекты» такого рода получаются чаще всего изначально мертворожденными. Подобным свойством обладают, к сожалению, многие «проекты»: уже в самом этом слове заложена некая одноразовость. Особенно ею страдают всякие «юбилейно-датские» затеи и фестивали «с концепцией», которая часто привязывается к текущему политическому моменту и оказывается больше фактом публицистики, нежели творчества.
— Допустим, композитор взялся за создание финала к неоконченному произведению. Что станет определяющим в выборе музыкального языка недостающих частей? Какая из задач сложнее — выступить со свободной интерпретацией, изложенной в собственном стиле, или осуществить попытку подражания?
— Конечно же, здесь не может быть универсальных рецептов. Лично я в своей жизни брался за чужой музыкальный материал по меньшей мере четыре раза. Говорю о работах, уже исполнявшихся. «Тип незавершенности» сочинений, над которыми я работал, был разным, и это определяло для меня музыкальные подходы к ним. Были среди них произведения по-настоящему незавершенные — подобно си-минорной симфонии Шуберта или «Lacrimosa» из «Реквиема» Моцарта. Были произведения (или их части), которые в наше время считаются «некогда бывшими, но утраченными», а именно — балетная интермедия Моцарта из его оперы «Асканий в Альбе». И наконец — музыка, созданная композитором не столько для звучания, сколько в виде неких идеальных музыкальных формул: каноны Баха на «фундаментальный бас» из его же собственных «Гольдберг-вариаций», написанные за три года до смерти.
— Для завершения симфонии Шуберта вы намеренно придерживались его языка?
— Да, причем вплоть до оркестрового письма, внимательно сверяясь с партитурами самого Шуберта — каким образом он пользуется натуральными валторнами, трубами и литаврами. С исполнениями этой работы мне особенно повезло. После премьеры в Германии ею заинтересовался Владимир Юровский: он неоднократно дирижировал ею в своих концертах с лондонским «аутентичным» Оркестром эпохи Просвещения и с Российским национальным оркестром. Затем ее исполняли Андрей Борейко (с Бельгийским национальным оркестром) и Давид Герингас (с литовским оркестром в Каунасе).
Балетное интермеццо Моцарта из «Аскания в Альбе» — это было уже, скорее, что-то среднее между реконструкцией и «рекомпозицией», где я старался максимально придерживаться стиля, характерного именно для пятнадцатилетнего Моцарта миланского периода. Согласно имеющейся гипотезе, часть этих балетных номеров сохранилась в виде довольно примитивного переложения для клавесина, сделанного кем-то другим (оно опубликовано в беренрайтеровском полном собрании сочинений Моцарта). Другая часть этих балетных номеров существует лишь в виде партий оркестровых басов. В первом случае я стилистически восстанавливал характерную моцартовскую оркестровую фактуру. Во втором случае — сочинял уже всю музыку, беря за неизменную основу эти басы: строил заново дом, имея перед собой лишь фундамент. В результате я написал две балетные сюиты, одна из которых уже исполнена в Германии дирижером Константином Тринксом с оркестром Дармштадтского оперного театра и выпущена на компакт-диске.
 © Alberto Novelli / Accademia Tedesca Villa Massimo Roma
© Alberto Novelli / Accademia Tedesca Villa Massimo Roma— Но с «Лакримозой» Моцарта, проектом, инициированным Теодором Курентзисом, получилось иначе…
— Там все неоконченные или даже ненаписанные Моцартом части «Реквиема» были завершены или соответственно сочинены заново разными современными композиторами. Получился своего рода «диалог с произведением» из нашей эпохи. Мне досталась «Lacrimosa», то есть ее первые восемь тактов. В массовом сознании музыка «Лакримозы» воспринимается как одно из глубочайших моцартовских откровений. Непосвященные даже не догадываются, что большая часть этой музыки написана Зюсмайром — настолько удачно, что там, где начинается «уже не Моцарт», подмена практически не воспринимается на слух. Зюсмайр в своем продолжении «Лакримозы» очень естественно и выразительно развивает все элементы, заданные Моцартом в начальных тактах. Это еще раз, кстати, свидетельствует о том, что удачное завершение чужого сочинения в стиле автора — выполнимая задача. Все зависит лишь от чуткости и деликатности того, кто за нее берется. И лучше, чем это сделал Зюсмайр, я убежден, не сделает никто. Все другие известные редакции моцартовского «Реквиема» — Байера, Левина и т.д. — лишь «уточняют» его версию: облегчают оркестровку, подчищают голосоведение — но не меняют ее основу.
Здесь я намеренно пошел по другому пути: сочинил что-то вроде свободной фантазии по этим моцартовским первым тактам. Сделал я это уже своим композиторским языком, хотя вся пьеса написана исключительно на моцартовском материале. В самом ее конце звучат мотивы из первой части «Реквиема» (Introitus), написанной Моцартом от начала до конца, — чью близость к «Лакримозе» я намеренно «прослеживаю» и «выявляю» в своей пьесе. Получилось своего рода музыкальное размышление о неоконченном «Реквиеме».
— Так или иначе, композитор вступает в диалог со своим предшественником. Есть ли в этом диалоге «заповедные зоны»? Или же композитор полностью свободен от каких-либо ограничителей?
— Все зависит от авторского ощущения и поставленной цели. Если это «честное» завершение музыки другого композитора, для меня в этом случае всегда важно сохранение целостности его музыкального языка. А если цель другая? Вдруг это намеренный «спор» с автором? В спорах бывают и запрещенные приемы. Я, правда, к ним пока что ни разу не прибегал.
— Легко ли композитору абстрагироваться от собственного стиля? Согласны ли вы с мнением, что композитор, принимаясь за такую работу, должен отождествить себя со своим предшественником?
— Тут опять-таки не может быть никакого «должен» — только внутреннее убеждение. С «Неоконченной» Шуберта у меня все началось с того, что я послушал цикл шубертовских симфоний, записанный Невиллом Маринером с оркестром «Академия Святого Мартина в полях». В этом издании три неоконченные симфонии Шуберта дописаны Брайаном Ньюболдом — музыковедом, который считается в Англии большим специалистом по Шуберту. Меня очень увлек шубертовский эскиз третьей части «Неоконченной», но я был разочарован тем, насколько тускло и невыразительно он дописан и оркестрован британцем. И уж совершенно нелепым мне показалось решение Ньюболда вставить на место отсутствующего финала оркестровый антракт из «Розамунды», да еще и с пояснением, что именно эта музыка якобы задумывалась Шубертом как финал симфонии. У меня родилась идея, как продолжить третью часть, опираясь на предыдущие две, и создать таким образом сквозную драматургию. А в качестве материала для финала симфонии, который мне предстояло написать полностью самому, оставаясь в русле шубертовского языка и стиля, я избрал его си-минорный Героический марш для фортепиано в четыре руки: он написан с тем же соотношением тональностей между основными темами, что и в первой части «Неоконченной».
Римский-Корсаков, завершая за покойным Мусоргским «Хованщину», был убежден, что его друг «не знал гармонии» и не умел оркестровать. В редакции Римского-Корсакова постоянно идет борьба между Мусоргским и им самим.
— Вы остались довольны результатом? В чем исключительная ценность такого опыта?
— Когда десять лет назад я завершил эту работу, я даже не поверил, что мне это удалось. Потом я многое в ней переделывал. И сейчас бы, наверное, еще что-то изменил.
Я понимаю возможный подтекст вашего вопроса: правильно ли я поступил, что взялся за все это? Не лучше ли было бы не трогать произведение, которое автор по каким-то причинам решил не доводить до конца? Не знаю… Ведь нам толком неизвестны эти причины. «Неоконченная» симфония совершенно уникальна и ни с чем не сопоставима. Причем у Шуберта часто оставались неоконченными именно такие вот уникальные сочинения, не похожие ни на что иное в своем роде. Вполне возможно, что, застряв на середине симфонии, Шуберт испытал то же самое ощущение, что и страус, когда прячет голову в песок после громкого удара, который сам же и произвел. А может, и «застревания» никакого не было! Не исключено, что продолжение симфонии было попросту утрачено, когда после смерти автора рукопись кочевала от владельца к владельцу. А может, Шуберт в тот момент не смог найти подходящих идей для продолжения. Так что причины могли быть и чисто внешнего порядка…
— Имеет ли значение, современники ли композиторы, а также их культурная, национальная и возрастная принадлежность? То есть действительно ли в распоряжении Зюсмайра было заведомо больше «козырей» для успешного завершения реквиема своего учителя? Или в этом вопросе все-таки решающую роль играет степень одаренности?
— Разумеется, важную роль играет и то и другое. И не только степень одаренности, но еще и степень доверия одного автора к другому. Известные нам самые удачные «окончания неоконченного» сделаны учениками или современниками, для которых музыкальный язык их эпохи был родным, которые лично знали и чувствовали «из первых рук» музыкальную индивидуальность автора, за чье произведение они брались.
Зюсмайр не только завершил начатые Моцартом части «Реквиема», но и сам написал от начала до конца те из них, за которые Моцарт не успел даже взяться, — как, например, «Sanctus», «Benedictus» и «Agnus Dei». Можно легко убедиться, что в них он старался развивать музыкальные «зацепки» из частей, написанных Моцартом. Например, в оркестровых ритурнелях «Benedictus» он проводит мотив, появившийся в самой первой части «Реквиема» (на слова «Et lux aeterna luceat eis» — «И вечный свет да воссияет им»).
Подобная «близость к автору» может сыграть и злую шутку. Римский-Корсаков, завершая за покойным Мусоргским «Хованщину», был убежден, что его друг «не знал гармонии» и не умел оркестровать. В редакции Римского-Корсакова постоянно идет борьба между Мусоргским и им самим. А ведь он еще и взялся «улучшать» «Бориса Годунова», написанного Мусоргским от первой до последней ноты! Лично я долгое время просто не воспринимал это произведение, пока слушал его в редакции Римского-Корсакова. И только лишь прослушивание «Хованщины» в редакциях других авторов полностью перевернуло мое отношение к этой удивительной опере. Больше всего я люблю уртекстовую редакцию Павла Лама в оркестровке Шостаковича, но только с финалом Стравинского, который, продолжив начатый Мусоргским хор раскольников, создал величественную картину их гибели — натуральной и символической.
— Насколько существенна роль обстоятельств, при которых композитор не сумел довести до конца свое произведение? Ведь, скажем, смерть — это одно, а потеря связи с произведением — совсем другое.
— В последнее время меня особенно привлекает именно «случай номер два». Я с большим интересом всматриваюсь в неоконченные фуги Баха, квартеты и сонаты, начатые, но по каким-то причинам не завершенные Гайдном, Моцартом или Шубертом. Особенно меня увлекают неоконченные произведения Шуберта, которые у него, во-первых, весьма многочисленны, а во-вторых, не менее гениальны, чем его завершенные произведения.
Можно ломать копья на тему того, видел ли Шуберт убедительное продолжение двух первых частей своей «Неоконченной» симфонии — и насколько первые две части органичны и самодостаточны сами по себе, а также насколько «на уровне» его собственный эскиз третьей части симфонии по сравнению с завершенными первыми двумя. Важно здесь, по-моему, осознавать другое: автор мог не найти убедительного для себя решения в тот конкретный момент и в тех конкретных обстоятельствах.
Чем, например, не «модернизация классиков» листовские транскрипции песен Шуберта?
— Можете ли вы назвать незавершенные произведения, которые настолько самодостаточны, что не нуждаются в финальной точке?
— «Моисей и Аарон» Шенберга, «Женитьба» Мусоргского, наверное, «Игроки» Шостаковича (хотя есть хорошая законченная редакция Кшиштофа Мейера). Пожалуй, Девятая симфония Брукнера. Она прерывается, как и «Неоконченная» Шуберта, на медленной части — да еще и в той же тональности, что у Шуберта. То же самое — Десятая Малера. Я, кстати, ничего не имею против реконструкции Деррика Кука! Но и первая часть — единственная, завершенная Малером, — по-моему, вполне самодостаточна.
Некоторые авторы поступали разумно, сознательно оставляя свои произведения одночастными, когда убеждались в полной исчерпанности своего высказывания вместе с первой частью. Именно так ведь возникла Фортепианная соната Берга! Равно как и некоторые фортепианные сонаты Прокофьева.
Другой пример — опять-таки из Шуберта: его до-минорный струнный квартет (1820 года). По смелости и непохожести на другие сочинения Шуберта в этом жанре он во многом близок «Неоконченной» симфонии. Автор написал лишь первую часть квартета. Начал вторую — и бросил. Почему — неясно. Но его первая часть уже сама по себе настолько исчерпывающая, что сочинение это звучит вполне убедительно, когда исполняется в одночастном виде.
Ну и наконец — Бах с его «Искусством фуги». Я не сомневаюсь, что финальную тройную фугу (с темой BACH), которая прервалась на середине из-за смерти композитора, можно при желании довести до конца, если перед этим хорошо поупражняться в полифонии и досконально изучить баховский стиль. Но лично на меня эта вещь сильнее всего воздействует, когда обрывается на том месте, где еще какое-то время (как бы по инерции) звучит одинокий голос.
— Как вы относитесь к попытке «модернизировать» язык классиков? Имею в виду созданную Хансом Цендером версию вокального цикла «Зимний путь» Шуберта.
— Это интересная композиторская интерпретация «по канве», как бы «поверх» шубертовского сочинения. Признаюсь честно: я принял ее не сразу, но сейчас она меня вполне убеждает. Особенно хорошо она звучит в театрализованном исполнении, в котором наиболее удачно срабатывают все пространственные эффекты.
Есть и другие похожие примеры: версии сочинений старинных итальянских композиторов (Монтеверди, Вивальди, Паганини), выполненные в ХХ веке Луиджи Даллапикколой или Лучано Берио. Примеры можно приводить и из более ранних эпох. Чем, например, не «модернизация классиков» листовские транскрипции песен Шуберта? Или транскрипции сонат Моцарта для двух фортепиано, сделанные Григом? Или «Моцартиана» Чайковского? Последние два сочинения звучат в наши дни, скорее, как отражение восприятия Моцарта той эпохой и данными конкретными двумя композиторами.
— Согласны ли вы с тем, что «неоконченность» — признак современности?
— Трудно ответить однозначно. Вопрос сформулирован, на мой взгляд, слишком общо. Есть сочинения послевоенной эпохи, которые считаются неоконченными и в таком виде даже исполняются и записываются. Например — Третья фортепианная соната Булеза. Идеология постмодернизма любит кокетничать понятиями «мозаичности» и «фрагментарности». Она боится и намеренно избегает «прямого высказывания», относя к своего рода табу и «завершенные» высказывания — не столько буквально, сколько в смысле некоей однозначности и определенности. Экспериментируют с неоднозначностью, «неодновекторностью», намеренной многовариантностью реализации одного и того же музыкального концепта — взять того же Кейджа и авторов, которые от него отпочковались.
Другое дело — когда композитор намеренно создает иллюзию «фрагмента». Как это, например, замечательно делает Дьердь Куртаг в своих циклах, состоящих из множества коротких пьес-частей, сильных именно своей взаимосвязью и постоянным взаимодействием различных музыкальных линий. Как, скажем, в его «Фрагментах по Кафке» — большом произведении для женского голоса и скрипки, написанном по кратчайшим, афористичным текстам-заметкам из дневниковых записей Кафки.
— А у вас есть собственные незавершенные сочинения?
— Есть. Не столько даже неоконченные, сколько недоработанные. Или — как сейчас стали выражаться — «нефинализированные».
— Как думаете, какова их судьба?
— Не знаю. Есть среди них такие, которые очень хочется довести до ума. Получится или нет — трудно сказать заранее. Есть и работы, которые вполне пригодны для исполнения в существующем виде, но я задумываюсь сейчас о некотором их расширении по количеству частей. Тут возникает вопрос, аналогичный тому, что вы уже задавали: не являются ли эти вещи самодостаточными в том виде, в котором сейчас существуют?
Например — мой «Воображаемый монотеатр Владимира Маяковского» для женского голоса и камерного ансамбля. На сегодняшний день это своего рода диптих, состоящий из двух текстов Маяковского: стихотворения «Скрипка и немножко нервно» и его предсмертных эскизов, названных мною по первой строке «Море уходит вспять…» Это своего рода два монолога, обращенных к воображаемому собеседнику — к некоей метафорически трактуемой скрипке и к любимой женщине. Своего рода начало и конец отношений. В таком виде это сочинение звучит вполне органично. Но у меня давно уже есть желание расширить его до небольшого цикла, добавив между этими частями еще два-три других стихотворения Маяковского. Дозрею ли я когда-нибудь до этого? И будет ли новая, расширенная редакция убедительной и удачной — вопрос уже другой.
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202239018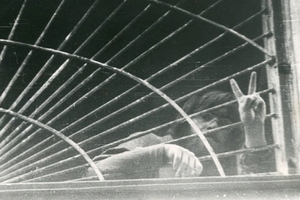 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202255267 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202235900 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 202282996 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202249397 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202236674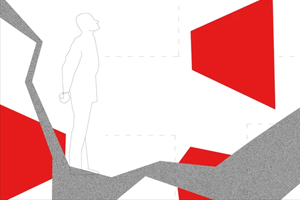 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали