 Литература
ЛитератураБабушкины письма
 © Виктор Горбачев
© Виктор ГорбачевДо всего умного и умственного, до всего, что можно будет о ней сказать, смерть поражает нас как бессмысленная и невыразимая нелепость, предельное отсутствие смысла. Сопротивляясь любой метафизике, этот слом выражается чистой грамматикой, заменой настоящего времени — прошлым: «есть» на «был». В выражении до понимания, в обращении к пустоте — поэзия первой находит путь и долго остается одна. И даже когда метафизика приходит произнести свое суждение, найти формулу, в которой душа, скорбящая о чужой — или своей приближающейся — смерти, могла бы приостановить поиски невозможного смысла и обрести относительный покой, метафизическая поэзия держится на всегда возможном соскальзывании в пропасть отчаяния, жалобный плач, обращение в никуда.
В предисловии к «Думе Иван-чая», этом манифесте новой русской поэзии, под которым, возможно, подписался бы не один он, Григорий Дашевский сформулировал необходимость писать стихи по-новому. Сознательно упрощая этот глубокий и важный текст, можно было бы сказать так. Поэтический прием, характеризуемый как наследие романтизма, отождествляет автора с лирическим героем, образуя «невинное и особенное» лирическое Я, с которым сможет слиться и читатель. «Просто стихи», наивно пишущиеся от первого лица, на самом деле пишутся «идолом Я», невидимо стоящим за спиной автора. Это Я, всегда уже заранее оправданное самим собой, искажает мир и других людей, принося их, со всеми отношениями и вещами мира, в жертву мнимой поэзии, на деле интересующейся лишь мной одним. Феноменологически настроенный читатель мог бы сказать, что уход от такой «некритической» установки должен дать место «самим вещам» — и, конечно, не в их подлинной реальности, которая невозможна и иллюзорна, а так, как они даны — и даны не только мне, но всем. Требуется переход от внутреннего к своего рода объективности, от Я к общему и не-личному, от наивной лирической позиции к «правдивому взгляду», осознающему, что видимое — всего лишь видимое, а не сама реальность. (Стихи, возможно, сказал бы феноменолог, интерпретируя Дашевского, должны писаться от лица «трансцендентального эго», фиксирующего «то немногое правильное, которое уже есть у каждого».) И прежде всего должна измениться поэтика, перестав искать и выдумывать и начав пользоваться «одномерными» и «общими» словами, «которые заведомо принадлежат всем и которые поэтому одинаково смешно и ставить в кавычки, и считать своими собственными» [1].
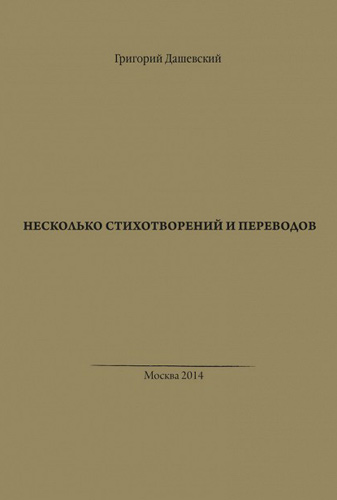 © Издательство Каспар Хаузер
© Издательство Каспар ХаузерВ последней книге Дашевского «Несколько стихотворений и переводов», составленной им в сознании близкой смерти, упразднение Я становится непосредственным жизненным переживанием. Жизнь и поэзия путаются, меняются местами, и отмена лирического Я поэзии начинает до странности напоминать постепенное стирание из жизни самого поэта. В этом состоит одна из существенных трудностей этой книги, которую мы при всем желании не можем воспринимать просто как текст среди прочих. Дело не только в том, что к ней как бы невидимо подшита история болезни автора (о самой болезни в книге нет ни слова), — мы имеем дело с его рассказом о собственном умирании, то есть речь идет о совпадении мысли о смерти и проживания умирания, практического заступания в смерть, освоения ее территории.
Композиция этой небольшой книги предельно выверенна. Она открывается пятью короткими стихотворениями 2003—2009 годов, далее идут шесть недатированных переводов с английского и латыни. Заканчивается книга стоящим особняком стихотворением «Нарцисс», написанным в 1983 году, то есть еще до «метафизического поворота», но с двумя последними строфами в редакции ноября 2013 года, то есть непосредственно перед смертью автора [2].
Тема отсутствия заявляется сразу, в первом же стихотворении («Ни себя, ни людей / нету здесь, не бывает»). Сияние закона, как в притче о вратах Закона из «Процесса» Кафки, освещает безлюдный мир, который, однако, полон природной жизни («Заповедь озаряет / сныть, лопух, комара»), жужжащих насекомых — традиционной в русской литературе антитезы человеческого общества. Заповедь здесь — это скорее всего заповедь любить ближнего как самого себя, и горестная шутка автора в том, что она исполняется в совершенстве, когда нет ни того, ни другого. Терпение невинного страдальца лишено какого бы то ни было искупительного смысла, и этический закон достигает совершенства лишь в отсутствие человека — как палача, так и жертвы.
Отсутствие непосредственно поименовано в стихотворении «Март позорный рой сугробу яму» [3], которое заканчивается строкой «Точно ты уже отсутствуешь», где сплошные «у» — как волчий вой, строкой, замирающей на этом страшном глаголе с пропуском ударения в мужской рифме или же с двумя ударениями [4]. Внутренний ритм здесь замедляется, выделяя отсутствие автора как смысловую доминанту [5]. Угрожающее «рой сугробу яму» с его скулящими «о» и «у» — перевернутое «не рой другому яму» с заменой «другому» на созвучное «сугробу», в котором слышится неизбежный «гроб», для коего яма и предназначена. Первые две строки прочитываются как грустная шутка: призыв к теплу («рой сугробу яму») и жалости к солнечным зайчикам, гибнущим на закате. Переиначенная цитата из «Повести временных лет» («Ляжем костьми, мертвые бо сраму не имут») вместе с «позорным мартом» говорят, как кажется, о стыде медленного умирания от болезни, противопоставляемом героической смерти в битве. Пронизывающий холод (как в выражении «промерз до костей») дает почувствовать, что жизнь с ее позором длится — осваивая мир, в котором меня может не быть, обживая отсутствие.
Это стихотворение в точности реализует намеченную Дашевским программу: сплетенные в чрезвычайно деликатной конструкции сплошные «общие слова» позволяют собственному голосу поэта остаться «за кадром», вынося «нарциссическое» Я за рамки стихотворения.
В своем некрологе Дашевскому Мария Степанова связала строчку «мы неправда не мучайте мы» из, возможно, самого известного стихотворения этой книги, «Марсиане в застенках Генштаба», с «фантомностью любого искусства, его неспособностью спасать». В поэтике Дашевского после «поворота» Я невосстановимо, ему нет замены, никакой новой правды, заменяющей старую неправду, нет. Спасти никого нельзя, есть только конкретность страдания, реальность боли и призыв к жалости.
Еще в книге есть странное стихотворение «Чужого малютку баюкал» — герметический миф, ключ к которому хотелось бы найти. Что значит отдать свой глаз, единственный, как у циклопа или Граий? Согласно Елене Шварц: «Поэт есть глаз, — узнаешь ты потом, — / мгновенье связанный с ревущим Божеством./ Глаз выдранный — на ниточке кровавой, / на миг вместивший мира боль и славу» [6]. В этой странной отдаче глаза, центральной точки, местопребывания Я, нам видится все тот же жест самостирания, избавления от своего поэтического Я, которым живет поэзия Дашевского после «поворота». Следует ли здесь вспомнить ослепляющего себя Эдипа?
Жизнь и поэзия путаются, меняются местами, и отмена лирического Я поэзии начинает до странности напоминать постепенное стирание из жизни самого поэта.
Наконец, последнее из пяти малых стихотворений — молитва, построенная на слиянии двух цитат из «Послания к евреям» ап. Павла: «Бог наш есть огнь поядающий» (Евр. 12:27) и «Страшно впасть в руки Бога живаго» (Евр. 10:31). Это развернутая метафора буквально прочитанного смысла слова «воспаление» («зуд сухость жжение») как огня, в котором сгорает больной. «Прошепчи что я милый твой птенчик» — этой предельно интимной, пронзительной строкой заканчивается пятое стихотворение, собственная речь автора. «Птенчик» заставляет вспомнить «зайчика» из «Марта позорного» (расположенного на том же развороте), и тому и другому явно грозит беда, и того и другого жаль до слез. В «Преклони» и «прошепчи» последних двух строк слышен отзвук «Римских элегий» Бродского («Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то» [7]), а также последнего стихотворения Рильке («nun aber nähr' ich dich und brenn in dir...» и далее: «O Leben, Leben: Draußensein. / Und ich in Lohe. Niemand der mich kennt») [8].
Переводы заслуживают отдельного большого разговора. То, что они занимают половину книги, скорее всего не случайно: чужой текст дает переводчику легальную возможность встать в его тень, скрыться за идентичностью другого поэта. Первыми в книге идут переводы из викторианских английских поэтов Суинберна и Хопкинса. Из «Сада Прозерпины» Суинберна переведена знаменитая предпоследняя строфа — благодарение за то, что полная страданий жизнь неизбежно когда-нибудь кончается. (Последняя, непереведенная, строфа завершается в окончательной мертвой точке: «Only the sleep eternal / in the eternal night».) Разрешение от страданий связано с избавлением от Я, и благодарить надлежит именно за то, «что в океан [когда-нибудь, наконец] вольется / [даже и] слабейший из ручьев».
Хопкинс — один из самых виртуозных и трудных поэтов викторианской эпохи, новатор в ритмике и словоупотреблении, поэт удивительно современного, прямо цветаевского звучания:
What hours, O what black hours we have spent
This night! what sights you, heart, saw; ways you went!
Обратившись в католичество и приняв монашество в ордене иезуитов, он сжигает свои стихи из опасения, что они станут препятствием на духовном пути. В последующие восемь лет он пишет только по благословению своих наставников. Самость — тема, очень важная для Хопкинса, изобретшего неологизмы «to selve, to unselve». Переведенное Дашевским стихотворение (две строки которого процитированы выше) — из так называемых ужасных сонетов — не столько о муке быть, сколько о муке самости, о муке быть Я. Осужденные в аду наказываются тем, что им оставлено их Я («бич им, / Как я себе, — их я в поту», именно так в оригинале, где стоит интенсивно физиологическое «sweating selves»). Дашевский помещает этот сонет Хопкинса после отрывка из звучащей очень традиционно длинной поэмы Суинберна (учившегося, кстати говоря, в том же Баллиол-колледже в Оксфорде за несколько лет до Хопкинса, но прожившего совсем иную жизнь). В этом жесте можно увидеть неожиданный поворот сквозной темы книги: отмененное Я возвращается, потому что у него есть неотменяемое дело — страдать. Упразднив Я как принцип организации поэтического мира, разбив «идол Я», мы не можем, однако, вовсе избавиться от самих себя, так же как мы не можем избавиться от страданий: «мной стала горечь».
Дашевский избегает недвусмысленной, прямой речи, которая нарушила бы его тонкую поэтику недосказанности. То, на что стихотворение направлено, должно остаться за его пределами.
Далее следует перевод оды Горация, классически противопоставляющей циклической смене времен года конечность человеческой жизни («Inmortalia ne speres»). Анализ перевода знаменитого стихотворения императора Адриана и всей переводческой стратегии Дашевского был проделан Анной Глазовой в ее статье. Там также указано множество примеров из этой книги, где происходит переплетение и взаимная подмена смерти и сна: «сон глубокий» из стихотворения «Чужого малютку баюкал»; строка «Что мертвый не проснется», которой переводится «That dead men rise up never» Суинберна; пробуждение среди ночи в сонете Хопкинса; наконец, «Возвратный сон» Фроста («Oft-repeated dream»). Группа переводов кончается отрывком из «Пепельной среды» Т.С. Элиота. В этот отрывок не попала молитва, которой соответствующая часть поэмы завершается [9], так же как и в переведенный отрывок из поэмы Суинберна не вошла ее заключительная строфа. Дашевский избегает недвусмысленной, прямой речи, которая нарушила бы его тонкую поэтику недосказанности. То, на что стихотворение направлено, должно остаться за его пределами.
Темы зрения, двусмысленности (противопоставления и отождествления) сна и смерти соединяются в стихотворении «Нарцисс», которое служит итогом книги. Начало стихотворения сохраняет редакцию 1983 года, до «поворота», и здесь доминирует тема рефлексии, самонаблюдения, зеркального отражения — глубочайший образ, центральный для всей европейской философской традиции. Двойник, видимый мной в зеркале, выступает гарантом моего существования, и в этом смысле я существую, поскольку вижу его. Я не едино, оно распалось на Я наблюдаемое и Я наблюдающее. Зрение, таким образом, становится метафизической опорой, подтверждением моего бытия. Заснув, закрыв глаза, я теряю эту опору, но одновременно освобождаюсь от слежки за собой, которая преследует меня всю жизнь, от двойственности внутри Я. Но можно ли слиться со своим отражением?
Стихотворение начинается приглашением к движению: «Ну что ж, пойдем». Это — начало некоторого пути, возможно, просто прогулки по кладбищу (излюбленный поэтический маршрут), но, может быть, на этом пути произойдет и некоторая встреча — встреча с двойником [10]. Тон разговора лирического героя со своим alter ego несколько напоминает «Школу для дураков» Саши Соколова. Во второй строфе в нарциссизм впадает небо, которое «смотрится» (здесь перебой ритма, то есть смысловой акцент) в мокрые от дождя тротуары. Глаза отражаются в лужах, но речь, обращенная к двойнику, — это нескончаемое говорение, которое по сути есть немота: «Дождь / молчит: ни да / ни нет». Мы приходим на кладбище. Надпись «Спокойно спите» в стихотворении прочитывается как «Спокойно спите / без снов и никому не снясь». Амбивалентность «да» и «нет», сна и смерти трансформируется в симметричность мира живых и мира мертвых, тех, кто по эту, и тех, кто по ту сторону зеркальных могильных плит, тех, кто снится, и тех, кто видит сон. Тут еще один уровень метафоры — «видеть во сне», и мы окончательно теряем голову в этой метафизической бездне: кто кому снится и кто кого видит? Кто «настоящее» Я, а кто лишь его двойник?
Конструкция смыслов, поддерживающая их противоречивость, противосмысленность, окончательно смыкается в двух последних строфах (редакция 2013 года). Здесь «холодный взгляд» неба сближается со взглядом лирического героя («небо светло, как Нарцисс»). Ранее мы читаем, что под этим взглядом «глазные яблоки» отражений падают и текут в потоках луж «уже слепые», воспроизводя отдачу зрения в стихотворении «Чужого малютку баюкал». Зрения в наступившей темноте или слепоте больше нет, видящий сливается с видимым («На что весь вечер просмотрел он /... слилось с ним наконец в одно / легчайшее немое тело») — в том числе, а может быть, и главным образом со своим зазеркальным двойником с той стороны могильной плиты, почти как в рассказе Кафки. Жизнь замещает смерть в двусмысленном сне-как-смерти или смерти-как-сне: «Он жив, блаженно дышит». Закрыв глаза, лирический герой совпал со своим двойником и, лишившись постоянного адресата нескончаемой речи, обрел желанную немоту. Может быть, немота Я и была целью программы, заявленной в предисловии к «Думе Иван-чая», — вынести авторское Я из пространства стихотворения для того, чтобы освободить место самой поэзии. И здесь мы можем, как кажется, объяснить парадоксальное возвращение Нарцисса в качестве последнего стихотворения последней книги поэта. Невозможно устранить Я, которое является субъектом страдания, мук совести или физических мук, то Я, которое просит о жалости («не мучайте мы»). Закрытие глаз поэтому освобождает от неизбежной тирании самости: от Я, подсматривающего за собой и обнаруживающего в себе все новую неправду.
В последней строфе настоящее время сменяется прошедшим и наступает вечность. То, что происходит здесь с лирическим героем, лучше всего передается словом «успение» — то есть сон под видом смерти. Ручей как образ вечной жизни, как символ живой поэзии, говорящей по ту сторону смерти, покоит в своей «глубокой тьме» его «легчайшее тело», обретшее блаженное успокоение.
Автор глубоко признателен Марку Гринбергу и Анне Ямпольской за внимательное прочтение предварительного варианта текста и многочисленные замечания и предложения.
[1] Радикализм авторского предисловия к «Думе Иван-чая» заслуживает отдельного и подробного анализа. Дашевский формулирует принципы поэтики, которая одновременно отталкивается как от концептуализма, так и от поэзии, пишущейся «от имени какой-то высшей силы (“язык” и пр.)». О продуктивности этой новой реформы поэтического языка для самой поэтической работы лучше всего скажет поэт: «раз такое возможно, поверхность языка раздвигается, как обеденный стол» (Мария Степанова, «Наше солнце», «Коммерсантъ», 19.12.2013).
[2] Сравнение двух вариантов см. в статье Анны Глазовой «Нарцисс» (о последнем сборнике стихов Григория Дашевского), COLTA.RU, 06.02.2014
[3] Отсылающем к хрестоматийному стихотворению Блока «Май жестокий с белыми ночами» (замечание Татьяны Левиной и Марии Степановой). «Март позорный», как отметил Кирилл Головастиков, происходит от блатного «волк позорный», что связано с «зайчиками» во второй строке, на блоковское происхождение которых указала Татьяна Нешумова («Зайчик розовый запляшет / По цветочкам на стене»).
[4] Слова с двумя ударениями встречаются у Дашевского и в других стихотворениях (замечание Татьяны Левиной, ср. «около девяти» из стихотворения «У метро» с двумя ударениями в слове «около»).
[5] Именно этот сдвиг, несовпадение реального ударения в слове «отсутствуешь» с позицией рифмы и моделирует то «отсутствие в присутствии», о котором идет речь. Возможно, что читать это слово надо в соответствии с его обычным акцентным контуром, и тогда метрическая схема сама даст нужное полуударение в конце, отвечающее приглушенному, но звучащему голосу (замечание Марка Гринберга).
[6] «Подражание Буало», см. также ее «Некоторые виды звезд (малая фуга)».
[7] Я благодарен Анне Ямпольской за эти замечания.
[8] Замечание Марка Гринберга.
[9] «Две последние строчки из фрагмента Элиота Дашевский не перевел — и это, наверное, самый пронзительный из его переводов, какой-то совершенно запредельный жест волевого безучастья, превращения чужого слова в действие» (Николай Эппле, «Памяти Дашевского», «Гефтер», 20.12.2013).
[10] Анна Глазова отмечает важность короткого рассказа Кафки «Сон» для понимания этого стихотворения. В рассказе прогулка по кладбищу заканчивается для героя трагически, хотя в последний момент, «восхищенный картиной» собственной могилы, «он проснулся». Глазова приводит фразу Дашевского из письма к ней: «Но в Вашей фразе, что, пока “Сон” бодрствует, Йозеф К. не умирает, есть что-то страшно утешительное, буду ее помнить».
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
Литература Colta Specials
Colta Specials Театр
Театр Современная музыка
Современная музыкаЛидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине
7 февраля 20223393 Молодая Россия
Молодая Россия Общество
ОбществоЖители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной
7 февраля 20223570 Литература
Литература Кино
КиноИгровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы
4 февраля 20223316 Современная музыка
Современная музыкаИзоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе
4 февраля 20223341 Искусство
ИскусствоГрафика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х
3 февраля 20223269 Искусство
ИскусствоБеседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science
2 февраля 20223515 Общество
ОбществоТекст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги
1 февраля 202211693