 Академическая музыка
Академическая музыка«Золотое правило — не пытаться петь несвойственным тебе голосом»
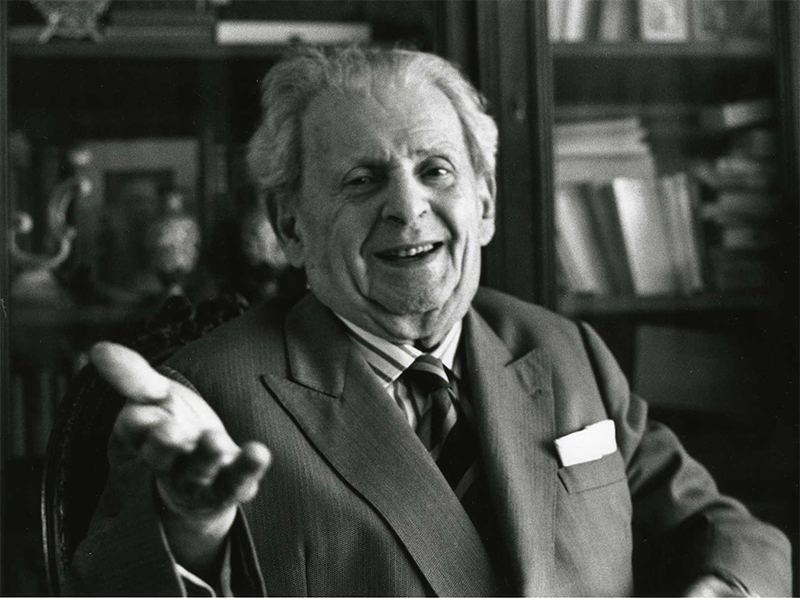 © Bracha L. Ettinger
© Bracha L. EttingerЕсли говорить о философских рецепциях поэзии Целана, на ум немедленно приходят имена Гадамера, Деррида и Лаку-Лабарта. Не следует, однако, забывать об еще одной крупной философской фигуре, проявившей интерес к Целану, а именно об Эмманюэле Левинасе. Левинас, один из самых значительных французских философов XX века, биографически имеет много общих черт с Целаном: как и Целан, Левинас потерял родителей и родных в Холокосте, испытал влияние философии Хайдеггера, находился в особых отношениях с русской культурой, и — самое главное, — как и Целан, Левинас был одержим темой Другого. Однако эссе Левинаса о Целане, в отличие от текстов Деррида или Лаку-Лабарта, относительно малоизвестно. Причина очевидна: крайняя герметичность текста Левинаса, который не только не может служить комментарием к Целану, но, напротив, сам нуждается в подробном разъясняющем комментарии. Мне тем не менее представляется, что в этом эссе Левинас говорит нечто важное — не только для левинасоведов, но и для всех читателей Целана. Это важное я попытаюсь вычленить и пояснить.
Сначала небольшая фактическая справка. Текст Левинаса, который называется «От бытия к другому» [1], впервые был опубликован в 1972 году в специальном номере Revue des Belles Lettres, посвященном Целану. В этом же номере напечатаны стихи Целана и эссе Ива Бонфуа, Жана Старобинского, Андре дю Буше, Мориса Бланшо. Левинасу было 66 лет, когда он написал свое эссе. Философы поздно достигают зрелости, и начало семидесятых годов — один из самых плодотворных периодов его жизни. В 1961 году вышел его первый opus magnum — «Тотальность и бесконечное», в 1964 году Левинас впервые получил место преподавателя в университете. Два года спустя после публикации этого эссе, в 1974 году, выйдет главная книга Левинаса — «Иначе, чем быть, или По ту сторону сущности», центральная глава которой, «Субституция», предварена эпиграфом из Целана. Эссе о Целане и книга 1974 года обнаруживают ряд текстуальных пересечений, без которых понять левинасовский текст о Целане трудно или даже невозможно; я вижу свою задачу в том, чтобы реконтекстуализировать левинасовские аллюзии к его собственной мысли и попытаться прояснить, что же он, собственно, хотел сказать.
В отличие от своего учителя Хайдеггера, Левинас печально известен критическим отношением к искусству. «Левинас с подозрением относится к поэзии», — сказал Бланшо, близкий друг Левинаса, и это мнение долгое время не было принято оспаривать. Недавние архивные разыскания показывают, однако, что слова Бланшо — только одна сторона медали: как выяснилось, молодой Левинас видел себя поэтом (причем русским, его родной язык был русский), а также романистом. Как утверждают мемуаристы, Левинас действительно был равнодушен к французской поэзии, которую он находил «холодной», зато любил Маяковского, Ходасевича и Мандельштама. И вот — Целан, текст о котором противоречит всему, что Левинас к тому моменту написал об искусстве вообще и о литературе в частности. Целановская поэтика — а Левинас идет относительно легким путем и читает не стихи, а «Меридиан» [2] и «Разговор в горах» — неожиданно для него самого оказывается своеобразной параллелью к его собственной этике. Трансцендирование возможно не только как этический акт, но и через стихи, говорит Левинас, словно удивляясь собственным словам. Но если внимательнее посмотреть на то, что именно он пишет, закрадывается подозрение, что только через стихи оно и может иметь место.
Действительно, для Левинаса этический акт («акт» — слово, не совсем подходящее, неточное, но я временно воспользуюсь им) невозможен без слова, обращенного к Другому. Этика получает свое осуществление в языке — не в одном лишь языке, но непременно и в языке тоже. «Этическая функция языка», если можно так выразиться, осуществляется в адресной речи — в речи, обращенной к Другому, или, как предпочитал говорить Левинас в свои поздние годы, к ближнему. Именно в этих терминах Левинас и описывает поэзию Целана: это «сказывание без высказанного… субъект подает знак того, что он подает знак, — вплоть до того, что он сам становится этим знаком». Что же значит эта формула?
Для Целана, говорит Левинас, стихотворение расположено на том уровне языка, который предшествует нейтральному, безличному, лишенному Я и Ты раскрытию мира: стихотворение, как и рукопожатие, — это момент чистого прикосновения, чистого контакта с рукой — с дающей рукой. Этот контакт не раскрывает мир — но делает самого говорящего доступным для мира, для другого. Именно в этом смысле следует понимать слова Целана о том, что стихотворение подобно рукопожатию [3], — потому что стихотворение, подобно рукопожатию, представляет собой знак, поданный другому. Стихотворение подает знак, однако этот знак — в отличие от обычного знака, функция которого состоит в отсылке, — ничего отличного от себя не означает, ни на что не указывает. Он не отсылает к чему-либо, отличному от этого знака. Обращаясь к другому, я не только передаю ему информацию, я не только раскрываю, делаю явным мир, я не только говорю «о чем-то» — я одновременно подаю другому знак: «вот я, тут, для тебя». Это дополнительное измерение речи, которое Левинас называет сказыванием (dire), несводимым к тому, что собственно высказано, — условие возможности моего общения с другим в целом, но обычно этот момент чистой адресности остается затушеван, скрыт. Не так в поэзии Целана, которая, по словам Левинаса, представляет собой чистую адресность, «сказывание, свободное от высказанного» (dire sans dit). Однако обращенное к другому сказывание — это не просто слова. Сказывание происходит не только на уровне словесном, но и на уровне телесности, воплощенности. Обращаясь к другому, я тем самым всегда уже отвечаю ему, и я всегда уже отвечаю за него. Это ответ, но ответ, который больше чем реплика в разговоре, чем реакция на слова собеседника, на его зов, — это ответ, которому эмпирический зов другого парадоксальным образом не предшествует. Иначе говоря, сказывание без высказанного предполагает мою «выставленность» по отношению к другому. Тема «выставленности», l'exposition, объединяет Целана и Левинаса: хотя Левинас и не цитирует слова Целана «поэзия больше не навязывает себя, она выставляет себя» («la poésie ne s'impose plus, elle s'expose»), метафора «выставленности» в «Иначе, чем быть» — одна из ключевых. Левинасовская «выставленность» подразумевает обнаженность (тоже целановское слово), беззащитность и уязвимость: «выставить себя» значит подставить щеку под удар, говорит Левинас [4]. Это и есть — стать для другого знаком того, что ты подаешь ему знак. Другими словами, сказывание как знак, который я подаю другому, означает, что в известном смысле субъект пресуществляется в слово: Я становится знаком, говорящий субъект превращается в тот знак, который он подает другому. В «Иначе, чем быть» Левинас отождествляет такой знак — «знак подавания знака» — с библейским ответом «вот я» (me voici), hineni. Такова общая концептуальная рамка, в которой Левинас разворачивает свой герметичный комментарий к «Меридиану».
Итак, стихотворение «устремляется» — устремляется к другому, оно говорит к другому: говоря обо мне, оно говорит «о том, что касается другого, совсем другого» — так поэт Андре дю Буше, в чьем переводе Левинас читает «Меридиан», переводит «ineines Anderen Sache zu sprechen… vielleicht in eines ganz Anderen Sache» [5]. Стихотворение есть движение, переход, оно переводит нас в некое «вовне». Это движение трансцендирования — из места в не-место, в «просвет утопии»; это «прыжок», который позволяет Я «отделиться от самого себя» [6]. Но верно ли, что движение к другому — то движение, которое приводит в у-топию, в не-место, — есть выход из самого себя, экстаз? Что означает это движение «долой от всего человеческого»? Как мы увидим, это движение двухтактно: его «центробежная» [7] составляющая выводит субъекта из себя — в «не по себе», к чуждому, но этот «экстатический» момент уравновешивается центростремительной составляющей: меридиан есть круговое движение, подразумевающее и возвращение к самому себе.
Левинас систематически смещает предмет обсуждения, переходя от «стихотворения» к «поэту»: его интересуют не столько стихи, сколько сам субъект, тот, кто говорит «под уклоном своего существования» [8]. Для него слова Целана о тварности самого творца свидетельствуют о том, что поэтическая речь осуществляет «десубстанциацию Я». Для того чтобы понять, о чем идет речь, необходимо опять обратиться к «параллельному» месту из «Иначе, чем быть», а именно к главе «Субституция». Я теряет идентичность, перестает совпадать с самим собой, становится и больше, и меньше себя самого: так Левинас перетолковывает слова Целана «alles ist weniger, als / es ist, / alles ist mehr», которые он сделал эпиграфом к своему эссе. Но утрата идентичности, чтойности позволяет Я обнаружить свою ответственность за все — в том числе за те преследования, которым я подвергаюсь от другого. Ситуация Я — это ситуация заложничества за Другого: быть Я значит стать искуплением Другого. И тут нельзя не вспомнить, что целановскую строку «ich bin du, wenn ich ich bin» (дословно «я есмь ты, когда я есмь я») из стихотворения «Хвала далям» (в переводе Лилит Жданко-Френкель эта строка звучит как «я — это ты, когда я — это я») Левинас берет в качестве эпиграфа к главе «Субституция». В этой формуле, как мне представляется, сжато выражена суть того, что Левинас называет субституцией; и именно эту формулу Левинас неявно противопоставляет тому «отчуждению», которое он слышит в другой знаменитой формуле — в словах Артюра Рембо «je est un autre», «я есть другой» (а не «я есмь другой», как то требовалось бы грамматикой). Я не вглядываюсь в свою душу, не отчуждаю ее в рефлексии, не присутствую при зарождении в ней внутреннего огня, который станет симфонией или поэмой (таков контекст этой фразы в письме Рембо), — но я обнаруживаю, что другой всегда уже — во мне, что я всегда уже отвечаю за него и вместо него. Я становлюсь заложником за/для другого — я замещаю другого в его ответственности, и в этом состоит моя собственная незаменимость. Другой/иное не есть то, что мне противостоит, что отлично от меня (тогда мое Я оказалось бы стартовой точкой, точкой отсчета, относительно которой я этого другого определяю, ввожу в определенные рамки и проч.); но быть я значит уже быть ты и быть для тебя. Говоря за чуждое, за другого, за совсем другого, я сталкиваюсь с самим собой. Мой путь к себе идет «через» другого. Я прихожу к себе, я обретаю себя, только проходя через тебя, только обращаясь к тебе, только говоря «за» тебя, — я обретаю свое собственное не как родину, которой я обладал исходно, а как у-топию или, говорит нам Левинас, как землю обетованную, обитание в которой оправдано и выправлено (justifié) движением к другому.
[1] Русский перевод эссе Левинаса, сделанный Борисом Дубиным, появился 25 лет назад, в 1996 году, в одном из номеров журнала «Иностранная литература» вместе с текстами Бонфуа и Старобинского. К сожалению, этот перевод, сам по себе очень красивый, не представляется удачным: он начинается с того, что Целан якобы сравнивает стихотворение со «сжатым кулаком» (Целан говорит о рукопожатии), а заканчивается упоминанием «небывалого пути небывалого» (в оригинале — «невозможный путь невозможного»). Тем, кто не владеет французским, я рекомендую знакомство с этим текстом по английскому переводу, вышедшему в сборнике «Proper Names», где эссе Левинаса было перепечатано.
[2] Речь Целана при получении Бюхнеровской премии 22 октября 1960 года, далее цитируется в переводе Анны Глазовой.
[3] «Я не вижу принципиальной разницы между рукопожатием и стихотворением» (письмо Целана Хансу Бендеру от 18 мая 1960 года).
[4] «L'un s'expose à l'autre comme une peau s'expose à ce qui la blesse, comme une joue offerte à celui qui frappe». В другом месте Левинас подчеркивает разницу между исходным употреблением метафоры ланиты, подставленной под удар, у Иеремии («подставляет ланиту свою биющему его, пресыщается поношением» (Плач 3:30)) и в Евангелии от Матфея («кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39)): подставляющий другую щеку все же совершает своего рода «акт», в то время как «пресыщающийся поношением» пассивен абсолютной пассивностью, это тот «пепел, из которого акт уже не возродить».
[5] Этот фрагмент из «Меридиана» Целана в переводе Анны Глазовой: «Но я думаю — и эта мысль Вас вряд ли теперь удивит — я думаю, что к надеждам стихотворения издревле принадлежит надежда как раз таким образом говорить за чуждое — нет, это слово я уже не вправе употребить — как раз таким образом говорить за другого — и кто знает, может быть, за кого-то совсем другого».
[6] Стоит отметить, что и этот комментарий основан на весьма вольном переводе дю Буше, весьма вольном, который передает Unendlichsprechung (в переводе Анны Глазовой — «бесконечное разговаривание») как conversion à l'infini.
[7] Так дю Буше переводит unheimlich.
[8] Этот фрагмент из «Меридиана» в переводе Анны Глазовой: «Это всё-ещё стихотворения, наверное, можно найти только в стихотворении того, кто не забывает о том, что говорит под уклоном своего существования, под уклоном своего твареподобного существа».
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Академическая музыка
Академическая музыка Литература
Литература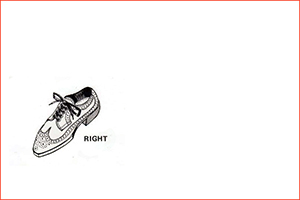 Молодая Россия
Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова
31 января 20221394 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыка Кино
КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат
27 января 20223737 Современная музыка
Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»
27 января 20223564 Молодая Россия
Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой
27 января 20221460 Литература
Литература Общество
Общество Кино
Кино Литература
Литература