 Литература
ЛитератураИстория о щеточке
 Тони Кармине Салерно. Архангел Метатрон (фрагмент)© tonicarminesalerno.com
Тони Кармине Салерно. Архангел Метатрон (фрагмент)© tonicarminesalerno.comФантастика (та, что не жанр, но прием) — в сущности, развернутая метафора. Именно поэтому в нашем культурном багаже столько текстов, содержащих фантастический элемент: от «Одиссеи», «Смерти Артура» или «Путешествий Гулливера» до «Дракулы» или «Франкенштейна…» и ближе — от Замятина и Оруэлла до «Града обреченного». Причина понятна: реалии устаревают, метафора, притча, возгоняющая казус в узус, — нет.
Именно потому фантастика ближе к поэзии, чем нам представляется. Аркадий Штыпель [1] уже указывал на это родовое сходство. Однако, как ни парадоксально, в послевоенном СССР с его пафосом «нового человека» и напористой апологией фронтира (хоть целины, хоть космоса) фантастическое в поэзии было, скорее, маргинальным и маркировало фронду автора — когда скрытую, а когда и явную; назовем навскидку из известного (то есть опубликованного) сатирическую поэму Твардовского «Теркин на том свете», мрачные полотна Юрия Кузнецова, две поэмы Кирсанова, «Струфиан» Самойлова, «Бунт машин» Вознесенского да еще кое-какие стихи Шефнера и Мартынова, не то чтобы известные широкому читателю. Показательно, что в стихах неблагонадежного Бродского фантастика как раз присутствовала — тем самым подтверждая его неблагонадежность. Можно сколь угодно долго гадать — что с ней было не так; возможно, дело как раз в том, что метафора, имплицитно присутствующая в фантастических сюжетах, допускает неоднозначное толкование, а следовательно — опасна.
Начиная с 90-х фантастика триумфально возвращается в поэзию. Именно возвращается, поскольку в 20-е и ранние 30-е годы она была органичной частью поэтического массива, в том числе в различных утопических построениях наподобие «Школы жуков» Николая Заболоцкого (1931). «Оно и неудивительно, — тут я опять цитирую Аркадия Штыпеля, — именно в фантастике, в разного рода утопиях-антиутопиях идеи мироустройства выходят на первый план. И в смутные времена (а времена нынче смутные, и не только у нас) оказываются как никогда востребованы» [2].
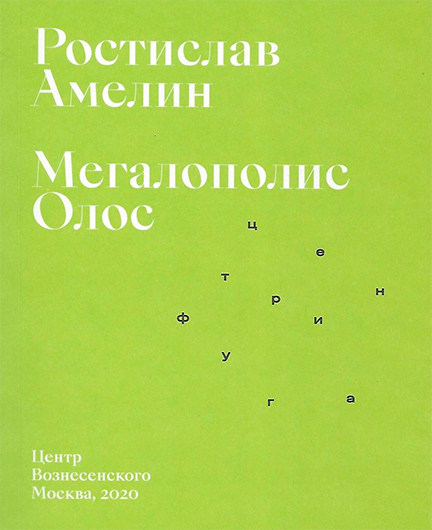 © Центр Вознесенского
© Центр ВознесенскогоО том же — хотя в несколько ином ключе — пишет и Илья Кукулин: «Возможно, активизация такого типа письма связана с тем, что в эпохи резкого слома критериев теряют релевантность прежние представления о личности и балладная поэзия, основанная на несобственно-прямых образах, оказывается “временным выходом”: она позволяет создать парадоксальную аперсональную лирику» [3].
Тут можно перечислять (и перечисляют!) тексты практически всех ключевых фигур 90-х — 2000-х — Алексея Цветкова, Григория Дашевского, Андрея Родионова, Федора Сваровского, Александра Кабанова, Марии Степановой, Линор Горалик и других; причем показательно то, что практически во всех случаях метафорой здесь становится нерасчленимый, целостный текст, все гибкое тело стихотворения [4]…
Одновременно в поэзию возвращается большая форма, то есть развернутый нарратив; так появляются фантастические поэмы, полифонические и построенные из почти самодостаточных фрагментов; в сущности, даже некоторые циклы того же Федора Сваровского вполне можно рассматривать как такие — подвижные, но целостные — структуры.
С этой точки зрения «Мегалополис Олос» Ростислава Амелина — уже, пожалуй, мейнстрим.
Итак, перед нами сто шестьдесят страниц текста, собственно — фантастический роман-коллаж в стихах, состоящий из девятнадцати глав и глоссария. Роман, который, как опять же следует из предварения, предполагается читать вслух для пущего эффекта (тут опять же следует вспомнить, что аудиопроекты набирают все большую силу, — и, конечно, фантастика и здесь в первых рядах: вспомним хотя бы недавние «Тени тевтонов» Алексея Иванова). Добавлю, что «Мегалополис…» в идеале предполагает нескольких чтецов, поскольку он диалогичен, вернее, полифоничен и складывается из реплик действующих лиц; перед нами фактически либретто оперы — буде кто-то захочет такую оперу поставить; можно представить себе, какие футурологические картины развернутся при адекватных сюжету спецэффектах.
Уже эпиграф из «Откровения Иоанна» предполагает отсылку к историческому культурному багажу (который, как мы уже говорили, битком набит текстами, опирающимися на фантастические допущения), пролог же («Там, где росли / вековые деревья, / летали стрекозы / и пели цикады, / поднимутся башни / финансовых центров, / откроются склады, / заводы, цеха. / Там, где текли / полноводные реки, / раскинутся пашни, / плотины и дамбы, / бескрайнее небо / скроется в тучах…»), с одной стороны, обращается к торжественной просодии «Прорицания вёльвы», с другой — к не менее хрестоматийной «Войне с Днепром», чей посыл с точки зрения нового, экологического, сознания чудовищен («Вот экскаватор / Паровой. / Он роет землю / Головой. / И тучей / Носятся за ним / Огонь, / И пар, / И пыль, / И дым. // Где вчера качались лодки — / Заработали лебедки. // Где шумел речной тростник — / Разъезжает паровик. // Где вчера плескались рыбы — / Динамит взрывает глыбы…»). Да и сам автор в конце пролога меланхолически замечает: «Время идет, / ничего не меняется. / Кажется, все / происходит впервые, / но Древние знают, / Древние видели: все повторяется, / многое — было».
Крушение привычного мира — дело повторяющееся («Ветер, ветер / по всей планете…»). Прошлое=будущее; Рагнарёк то ли уже был, то ли грядет, то ли и то и другое… Во вселенском масштабе время — величина переменная.
Впрочем, в случае «Мегалополиса…» пафос космизма и мрачный трагизм в духе то ли Стэплдона, то ли Дёблина сознательно снимаются просторечиями и сленгом («Кто ты? <…> Никто я. / Что ты втирал им?»).
Итак, мир на пороге невиданных и разнонаправленных изменений (тут можно было бы потолковать о точке сингулярности — текст Ростислава Амелина располагает к тому, чтобы развернуть этот в высшей степени соблазнительный тезис, но я все же удержусь). Об этом нам сообщают Духи Предков, Древние, — а заодно обличают зажравшееся человечество не хуже Греты Тунберг («Открытые кассы, / разбитые судьбы, / горы бумаги, / стекла и пластмассы. / Мир задыхается, / тонет в отбросах…»). Цифровая диктатура, тотальная слежка, промывка мозгов, подавление любых естественных импульсов, реклама, власть транснациональных корпораций, за красивым фасадом — унылые фабрики, свалки, бомжатники и нелегальные притоны… Древние, существующие в циклическом, мифологическом времени, а следовательно, осведомленные о грядущем конце человечества, истребившего все живое, инициируют путем заражения избранных могущественными «архибактериями»-симбионтами секту эндокриоников. Эндокрионики, направляемые Древними (те, кто проглотил раствор из загадочной пробирки, способны их видеть), ждут своего Нео и, чтобы ускорить его пришествие, намерены заразить «новой инфекцией» весь Мегалополис. В ходе акции выясняется, что, во-первых, элита вот-вот всех оцифрует и, приманив обещанием вечной жизни, навсегда привяжет к технологичному миру, во-вторых, все живое вот-вот исчезнет во вспышке Сверхновой. Сохранить не только людей, но всех живых существ, перед которыми человечество в долгу, можно путем инициации проекта «Надежда» — нового Ковчега, искусственного биома, но проект заморожен корыстными корпорациями за неприбыльностью. Открыть его может лишь Венец творений — «гаджет для путешествия в Информосфере», но к Венцу не так просто подобраться. Помогает эндокрионикам-мессиям прекрасная женщина-медиум. Даже две женщины — Принцесса (воплощенная анима) и Зоя, то есть буквально Жизнь. (В принципе, тут можно усмотреть аллюзии на Озу/Зою, героиню поэмы певца НТР Андрея Вознесенского, но, полагаю, это, что называется, случайное/неслучайное совпадение, тем более поэма Вознесенского, хотя там и фигурирует циклотрон, ни разу не фантастика.) Ну и, конечно, пропповский волшебный помощник, в данном случае — обретшая разум крыса.
Поклонник фантастики легко опознает этот сюжет — Братство Кольца, случайные/неслучайные спутники, квест ради спасения мира в поисках некоего действенного артефакта; собственно, и сам автор в какой-то момент заставляет своих героев в этом признаться: «Это какой-то / блокбастер! // Да уж!» Финал, однако, совсем не такой благостный, как этого требуют рамки жанра; да и вскрытие приема умело выбивает почву из-под ног доверчивого читателя.
Переосмысление масскультурных штампов — один из опорных признаков «нового канона», пишет в упомянутой статье Илья Кукулин. А про того же Федора Сваровского в Википедии сказано буквально, что он «ввел в поэзию гротескно-фантастическое измерение (в том числе с использованием штампов массового, прежде всего — американского, научно-фантастического кино и советской фантастической литературы), сделав его основой для новой поэтической антропологии».
Поэзия, однако, отличается от масскультуры хотя бы тем, что содержит, выражаясь квазинаучным языком, пакеты информации гораздо большей емкости, чем даже призовые образцы жанра, изводящие гораздо больше деревьев (что в нашем случае немаловажно). «Флэшбэк» Дэна Симмонса с такой же двусмысленной, мерцающей утопической/антиутопической концовкой — книга, мягко говоря, увесистая. А собранная по тому же коллажному принципу, что и поэма Ростислава Амелина, недавняя дилогия Кирилла Фокина «Жизнь Ленро Авельца» и «Смерть Ленро Авельца» [5] (вещь в высшей степени любопытная) — так и вообще двухтомник. Автору «Мегалополиса…», однако, удалось внести в «какой-то блокбастер» библейский мотив вины и искупления. Столь чаемая натурфилософами двадцатых «школа жуков» — обучение деревьев стихам Гесиода, «школьный звонок над щитом Кухулина», то есть искусственная возгонка всей природы до верхней площадки эволюционной лестницы, где гордо высится одинокая человеческая фигура, — оказалась обманом, миражом, красивой, но вредной сказкой, легитимизирующей войну со всем живущим. Как в упомянутом стихотворении Маршака — «И вот к реке поставлена / Железная стена. / И вот реке объявлена / Война, / Война, / Война! // Выходит в бой / Подъемный кран, / Двадцатитонный Великан <…> / Идет Бурильщик, / Точно слон. / От ярости / Трясется он. / Железным хоботом / Звенит / И бьет без промаха / В гранит». Совершенно апокалиптическая картина, так и напрашивается — «Летит архангел Метатрон (вариант — «трансформер Мегатрон»), / от ярости трясется он» — и так далее…
И вот, согласно декларируемой тут новой этике, оказывается, что назначение человечества — не в федоровском воскрешении отцов (кстати, с сопутствующим уничтожением всех неразумных), но именно в спасении малых сих, умственно слепых бессловесных тварей, брошенных — ради сомнительных целей — в топку цивилизации. Впрочем, судя по двусмысленной, бинарной концовке поэмы, у человечества, кажется, опять ничего не получилось. То, что по «пути Гесиода» удалось продвинуть одну-единственную лабораторную крысу Соню, — в сущности, горькая ирония.
Ростислав Амелин. Мегалополис Олос. — М.: Центр Вознесенского, 2020. 160 с. (Серия «Центрифуга»)
[1] А. Штыпель. Сначала мысль. Эта фантастическая поэзия // Реальность фантастики. Киев. №№ 5–6. 2005.
[2] Книжная полка Аркадия Штыпеля // Новый мир. № 9. 2012.
[3] И. Кукулин. От Сваровского к Жуковскому и обратно. О том, как метод исследования конструирует литературный канон // Новое литературное обозрение. № 1. 2008.
[4] См., например: М. Галина. Малый апокриф возвращенца. Об одном стихотворении Марии Марковой // Новый мир. № 2. 2016.
[5] М.: ОГИ, 2021. Стр. 328, 432.
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
Литература Театр
Театр Литература
Литература Искусство
Искусство
Победительница берлинского Encounters рассказывает о диалектических отношениях с порнографическим текстом, который послужил основой ее экспериментальной работы «Мутценбахер»
18 февраля 20221777 Общество
ОбществоКирилл Медведев о частном случае борьбы москвичей против девелоперов — который ведет к более широким вопросам локального активизма
18 февраля 20223724 Академическая музыка
Академическая музыка Театр
Театр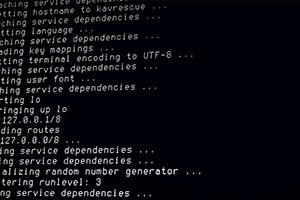 Общество
Общество
Андрей Мирошниченко о том, как цифровые медиа соблазняли человека, привыкшего к книгам
17 февраля 20223946 Colta Specials
Colta Specials Искусство
ИскусствоВасилий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»
16 февраля 20223852 Театр
Театр