 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияНадежда Папудогло: «Я прогнозирую полный упадок малых российских медиа»
Разговор с издателем «Мела» о плачевном состоянии медийного рынка, который экономика убьет быстрее, чем политика
9 августа 202339077
В журнале «Новое литературное обозрение» есть «плавающая» рубрика «Книга как событие». В 152-м номере она отдана роману Виктора Лапицкого «Пришед на пустошь (Nun komm der heiden Heiland)». На этапе обкатки этой рубрики, переписываясь с потенциальными авторами, я думал добавить в нее интервью с Лапицким и свои замечания по поводу его детища (созданного, напомню, в 1983—1986 годах и увидевшего свет только сейчас). Однако после того, как высказывания критиков выстроились в определенную — самодостаточную и богатую разнообразными подходами — конфигурацию, превысив первоначально предполагавшийся объем, я посчитал их избыточными. Между тем по прошествии времени я вижу, что ошибся. Сказанное Лапицким предлагает своего рода контрверсию всех предложенных интерпретаций, дает зачастую совсем другие «ключи» к прочтению этого непростого текста.
Ошибки надо исправлять.
Роман Лапицкого открывает — в отечественном контексте, по крайней мере, — новый континент. Это феномен теле-видения, видео-наблюдения и видео-игр. «Пришед на пустошь» исследует то, как эта новая — позднее ее назовут виртуальной — реальность вторгается в привычную нам картину мира и изменяет перцепцию, опыт, язык, структуру чувственности. В этом его профетическая, опережающая свое время сила (роман был написан задолго до тематизации теле-видения и электронных медиа в российской словесности и гуманитарной науке). Формально он наследует сложнейшим конструкциям модернистского романа и послевоенной серийной авангардной музыки, стремясь к созданию «абсолютного текста» в духе Малларме (отсылки к которому служат лейтмотивом романа), но при этом вводя на правах контрапункта «телесный низ», физиологические отправления и насилие, деконструирующие возвышенно-абстрактный континуум предшественника. Все это в целом позволяет говорить о романе Лапицкого как о тектоническом сдвиге не только в литературном, но и — шире — в культурном отечественном ландшафте.
Александр Скидан
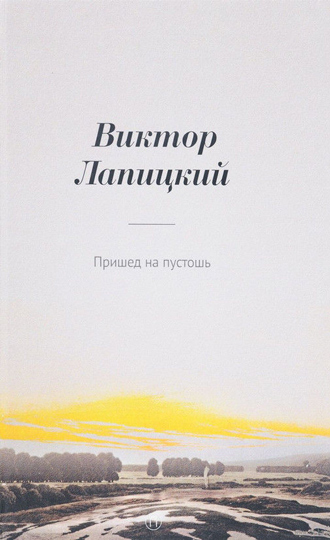 © Пальмира, 2017
© Пальмира, 2017— Как это писалось?
— От руки, ты же видел рукопись, 180 страниц мелким почерком (объем был задан заранее); я никогда не умел печатать на машинке, а компьютер подоспел много позже… А еще — читая, глядя вокруг…
— Черновики?
— Да, писал почти каждый день, понемногу, на всяких обрывках, на полях каких-то текстов и раз в несколько дней (в неделю, наверное) переписывал, сводил все это к линейному беловому состоянию, старался. Потом мне подарили новомодные желтые клейкие бумажки, и я смог чуть-чуть внедряться, вклеиваться в написанное раньше. И в таком нечитаемом для постороннего глаза виде текст существовал до тех пор, пока добрые люди (Маша Лаптева и Миша Блюдзе) не набрали все это на компьютере.
— Колебания, сомнения?
— Первый абзац: попроще или на полную катушку? Менял, пытаясь прояснить, несколько раз, в результате еще поднаддал сложности. Зато так и не решил, нужно ли ставить в начале или в конце всего текста запятую, чтобы пояснить: конец и начало, по заветам Элиота, — одна и та же фраза.
— Откуда подзаголовок?
— Исходно он был и вовсе заголовком (от хронического по той поре восхищения одной органной пьесой; автора, надеюсь, никто так и не вычислил), но Боря (Останин) убедил, что тексту с таким названием на Руси не бывать, да и двузначность его вряд ли кто-либо оценит; я поверил — и вдруг появился «пришед», всего лучше.
— На что-нибудь это похоже?
— С одной стороны, смешно так рассуждать («ты похож на себя, дурака»). С другой, есть текст-двойник, написанный, правда, под другим углом атаки на читателя и в совершенно другой стилистике — причем практически одновременно: «Любовница Витгенштейна» (восхищен, что ее (его? все же Марксон круче любой любовницы) перевели на русский: годами хотел сделать это сам); по-своему близок и «Последний мир» француженки Селин Минар (где-то примерно 2010-й), ну и аспектом ежедневного чтения/любопытствия — «Чаепития» Леона Богданова.
— Влияния?
— Наверное, обиняками — Жак Деррида: я его как раз начинал переводить — и он научил, что чем безжалостнее наедешь на читателя, тем восторженнее он будет; возможно, Клод Симон — по крайней мере, я единственный раз в жизни испытал ощущение письменного déjà vu, «дежа экри», будто написал это сам, читая в 80-е его «Историю». И еще. Одно очень странное «недовлияние»: в процессе написания сего текста вышел русский перевод «Человека без свойств», и по прочтении первых глав я с испугом обнаружил, что начинаю писать по-другому. Пришлось срочно отдать книгу для прочтения подруге (с чем она блестяще, неспешно справилась).
— Женское?
— Ну да, конечно, в этом тексте только одна женская роль — Вечная женственность. Да, из влияний надо не забыть Сада: как раз в то время я странным образом получил сквозь советскую цензуру доступ к его текстам.
— Про что роман?
— Про то, что «писать — совсем не то, что видеть», что, когда пишешь, перестаешь видеть, когда видишь, не стоит писать. Или еще. Когда видно, не надо трогать. Когда трогаешь, видишь нечто иное. И т.д.
— Почему «роман»?
— Ага, это начиналось как один из «рассказов», сложенных в «Борхес умер», но в нем хотелось сломать навязываемые подобным письмом ходы и коды; те тексты были написаны с оглядкой на читателя, здесь я решил послать его к черту: ярлык «роман» был эпатажной бандерильей, Аркадий (Драгомощенко), который, само собой, читал только куски, сразу окрестил все это поэмой.
— Ключевое слово?
— Без вариантов — «солипсизм». Когда начинают рассуждать о числе персонажей, мне становится смешно: он (или я) здесь один, просто мы начинаем отражаться.
— Как Нарцисс?
— Если ты что-то видишь, то это отчасти ты сам: ты всегда отражаешься в том, что видишь (квантовая патамеханика?). Нарциссизм: то, на что ты смотришь, становится тобою (не отсюда ли «глаза — зеркало души» и т.п.?). Таково и письмо: ты пишешься сам, текст — это ты…
— Почему текст рваный?
— Почему рваный? Он просто, как сегодня можно сказать на языке Бадью, не хочет ни разу оказываться ситуацией, хочет постоянно быть событием, постоянно привнося для этого пустоту, — не зная ярлыков, именно к этому «я» тогда и стремился. Он построен так, чтобы та же ситуация в ином контексте оказывалась чревата событием. Или иначе: книга состоит из событий, происходящих в заданном наборе ситуаций.
— Но он же герметичен?
— Это же можно понимать по-разному… Главное — он состоит, прежде всего, из пустот и отверстий, из зияний-провалов между абзацами; я хотел, чтобы в нем не было внутренности, он сродни тому, что математики зовут ковром Серпинского, — фрактальной дыре.
— А «философия»?
— Треугольник телесного, зримого и текстового… да еще и музыка… все это внеположно мысли, до конца ею неусвояемо. Любой ее дизъюнктивный синтез в своей уникальности солипсичен. И, хотя всякий раз по-новому, предполагает повторы, цитирование.
— Откуда цитаты?
— Из архитектуры: Шартр, Везле… Из живописи. Из жизни, из прошлого. Ну, из Рейсбрука, вестимо, и из музыки.
— Любимые композиторы?
— Тогда? Шютц, Лигети, Лютославский… Сейчас? Окегем (которого я тогда не отличал от Обрехта), Фельдман, Гризе, наверное… И, как всегда, Бах с Дебюсси и Стравинским. Кое-кого можно выловить в тексте.
— Художники?
— Ну, в тексте их вряд ли обнаружишь: ни ван дер Вейдена, ни Брама ван Вельде словами не описать. Зато здесь много других: Грюневальд, Редон, Веласкес и, главное, Бэкон. Ну и Босх позади Рейсбрука.
— Что там с цветом?
— Хм, по-разному. Наверное, я уже знал физиологику цветов по Гете, но наверняка не знал их алгебру от Останина. Ну а так — что-то из Китая (его в тексте вообще довольно много: Ицзин, Хэ-ту в роли «эха туманного» — и не только); желто-зеленость (кустарника?), по-моему, из Шумера, где два этих цвета не различались (похожие «проблемы» с современной спектральной раскладкой были, по-моему, и в Ирландии); красное, по-своему самое мощное и сугубо личное, подпиталось мебелью Фалька.
— А с природой?
— Либо описания известных картин (и не только для природы — здесь более всего Каспара Давида Фридриха, просил его на обложку), либо по большей части конкретные детско-юношеские дачно-грибные воспоминания о южном побережье Финского залива: «большая родина» (трапеция Ораниенбаум — Гостилицы — Копорье — Систо-Палкино (обожаю)) или «малая», где все протоптано-исхожено: Сагамилье, дорога на Пульман и от Таменгонта «к леснику», почти до Лебяжья.
— Телевизор?
— Для меня трансцендентная инстанция: лет десять-пятнадцать и до, и после этого периода телевизора у нас в доме не было, на хороший футбол и «смотреть телевизор» ходили с женой к друзьям. А в Америку — это я про ТВ — впервые попал в конце 80-х. И еще: телевизор — это и тело-визир.
— Почему мода?
— Ну, я какие-то темы априорно затабуировал, а эту, в которой более чем профан, решил сделать обязательной, чтобы неуютно было не только читателю.
— А мухи откуда?
— Потому что не перевариваю, наверное. Вообще-то они у меня всюду попадаются, почаще других насекомых, а еще у Беккета есть стишок, а еще мне понравился образ «мухи Чжуан-цзы», а еще я вот сейчас перевел «Цеце» Клода Луи-Комбе…
— Интересно читать себя спустя столько лет?
— Ну да, и я многое «понимаю», чего со стороны не понять. Но для меня, увы, исчез «раствор» (в двух смыслах — «пробел» и «цемент») между микро- (внутренняя форма текста, языкопись) и макро- («концепция») планами: я вижу грибницу и знаю, что делать с грибами, но самих грибов не нахожу. Ну а кроме того, начинает потрескивать различие между тем же и другим (я и тот же, и другой — во всей радикальности этого слова). Короче, наверное, стоит взять «себя», как делают славные люди, в кавычки.
— Что-нибудь добавишь?
— Да, оказалось, что солипсический текст концентрируется на своем авторе; пришлось много рассуждать о себе (о «себе», уточнил бы, повторюсь, Ванталов), тем самым предполагая наличие не-себя, — апория, про которую, возможно, и сам этот текст.
— Вопросы читателю?
— Легко: что табуировано в этом тексте?
P.S. Любопытно быть в шкуре слона, которого ощупывают мудрецы…
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияРазговор с издателем «Мела» о плачевном состоянии медийного рынка, который экономика убьет быстрее, чем политика
9 августа 202339077 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияГлавный редактор «Таких дел» о том, как взбивать сметану в масло, писать о людях вне зависимости от их ошибок, бороться за «глубинного» читателя и работать там, где очень трудно, но необходимо
12 июля 202368050 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияГлавный редактор «Верстки» о новой философии дистрибуции, опорных точках своей редакционной политики, механизмах успеха и о том, как просто ощутить свою миссию
19 июня 202348369 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияГлавный редактор телеканала «Дождь» о том, как делать репортажи из России, не находясь в России, о редакции как общине и о неподчинении императивам
7 июня 202340158 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияРазговор Ксении Лученко с известным медиааналитиком о жизни и проблемах эмигрантских медиа. И старт нового проекта Кольты «Журналистика: ревизия»
29 мая 202362143 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиПятичасовой разговор Елены Ковальской, Нади Плунгян, Юрия Сапрыкина и Александра Иванова о том, почему сегодня необходимо быть в России. Разговор ведут Михаил Ратгауз и Екатерина Вахрамцева
14 марта 202396682 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиВторая часть большого, пятичасового, разговора между Юрием Сапрыкиным, Александром Ивановым, Надей Плунгян, Еленой Ковальской, Екатериной Вахрамцевой и Михаилом Ратгаузом
14 марта 2023107055 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиАрнольд Хачатуров и Сергей Машуков поговорили с историком анархизма о судьбах горизонтальной идеи в последние два столетия
21 февраля 202341603 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСоциолог Любовь Чернышева изучала питерские квартиры-коммуны. Мария Мускевич узнала, какие достижения и ошибки можно обнаружить в этом опыте для активистских инициатив
13 февраля 202310630 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные объединения — это не только розы, очень часто это вполне ощутимые тернии. И к ним лучше быть готовым
10 февраля 202312482 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202312561 Colta Specials
Colta Specials