 Литература
ЛитератураИстория о щеточке
 1962© Г. Гжед / ТАСС
1962© Г. Гжед / ТАССПочему семь лет назад смерть Андрея Вознесенского не вызвала такой общественной реакции?
Ведь Вознесенский был любимым поэтом нашего отрочества (я говорю о своем поколении, о тех, кому сейчас за пятьдесят, об очень многих из нас). Конечно, повзрослев, мы этого стеснялись: плохого вкуса, проявленного в пятнадцать лет. Хотя дело было, конечно же, не в плохом вкусе, а в советском невежестве в сочетании с затаенной ностальгией по острой форме, по чувственности, по экзотике. По «ананасу».
С Евтушенко иначе. Стихов его мы, нынешние люди средних лет, никогда не любили — и даже не воспринимали их всерьез (я говорю о своем круге, конечно, все бывает и бывало по-разному). Их любили наши родители, нынешние старики. Но не сверстники Евтушенко ныне отпевают его.
Видимо, смерть этого человека обозначила важный рубеж. Не случайно она совпала со столетием революции. Закончился исторический цикл. И, значит, о многом надо говорить заново, «без гнева и пристрастия». Перестать ностальгировать о невозвратном и бороться со вчерашним злом — с нас и сегодняшнего довольно.
Евтушенко воплотил в себе трагедию второй половины советской эпохи — судорожную и искреннюю попытку могучего дракона с ледяной кровью очеловечиться и помолодеть. Или, точнее, попытку людей, из тел и душ которых состоял этот дракон, стать просто людьми и за счет этого снова обрести будущее. И они стали людьми, но будущего не обрели — того будущего, о котором мечтали.
Но надежда — была. Нам трудно представить себе, что ощутили миллионы «нормальных советских людей» в середине пятидесятых. Ну вот давайте пересмотрим фильм «Покровские ворота» — это о том. Или все-таки не совсем о том. Потому что речь шла, конечно, не только о семейном счастье с Людочкой, она же Милочка, в которое никто не полезет своими жирными пальцами. Ожило какое-то воспоминание о двадцатых, об ощущении «нового неба и новой земли». Какое-то большое дыхание.
…Занимаю трамваи с бою,
увлеченно кому-то лгу,
и бегу я сам за собою,
и догнать себя не могу.
Удивляюсь баржам бокастым,
самолетам, стихам своим…
Наделили меня богатством,
Не сказали, что делать с ним.
Евтушенко был наделен от природы огромным социокультурным даром — способностью конденсировать и воплощать дух времени… и весьма обычным, из ряда, поэтическим дарованием, к тому же стесненным одномерной советской эстетикой. Впрочем, судить о его собственно поэтических способностях трудно — он не развивал их, не учился, не задумывался о тонких проблемах ремесла, ему было не до этого. Во всяком случае, он был изрядным версификатором — не худшим, чем его преемники на большой эстраде, Дмитрий Быков или Вера Полозкова. Но если все-таки что-то из написанного им сохранило известное обаяние, то это именно стихи пятидесятых и начала шестидесятых, причем не «гражданские» (такие, как «Бабий Яр» или «Наследники Сталина»), а чисто лирические, любовные.
Другое дело, что мы едва ли стали бы сегодня отпевать автора этих нескольких хороших стихотворений. Такого было много. В Евтушенко интересно другое. Его ранние стихи — своего рода репортаж о людях времени, какими они хотели быть описанными. То есть не столько о них, сколько об их сознании и языке. Это очень важное уточнение. Какими эти люди были? Читайте лианозовцев, читайте Рида Грачева (с поправкой на оптику большого художника, преображающую мир). Какими хотели быть? Читайте стихи Вознесенского и прозу Аксенова. Как хотели быть описаны? Вот тут к Евтушенко. Он гениально умел почувствовать, какую полуправду люди его поколения хотят о себе услышать. И говорил ее, рассказывая якобы о себе самом — таком несовершенном, но таком замечательном.
Я разный — я натруженный и праздный.
Я целе- и нецелесообразный.
Я весь несовместимый, неудобный,
застенчивый и наглый, злой и добрый.
(О да, у нас уже на устах цитата из помянутого фильма: «Я вся такая внезапная, противоречивая вся такая» — конечно, пародируется именно это, может быть, не конкретно эти строки, но, так сказать, дискурс; так же как знаменитая «я не блядь, а крановщица» — это явная Нюшка из «Братской ГЭС».)
Да, но все это имело смысл, пока маячило чаемое Новое Небо. Нам очень трудно представить себе, но довольно большое количество молодых советских людей в 1961 году действительно верило, что будут жить при коммунизме, так же как читатели Айзека Азимова в то же самое время совершенно серьезно представляли себе свою старость среди человекоподобных роботов и космических экспрессов. В какой момент у человечества украли будущее, заменив его кисло-сладким лимбом Фукуямы — а потом и тот украли? Это отдельная тема. Для советских людей переломным был, возможно, 1968 год. Но еще до этого все стало сомнительно и неблагополучно. Уж очень анекдотически звучит спор Братской ГЭС с египетской пирамидой.
Оказалось, что новую землю давно растратили, а новое небо съели в голодный год. Что разведчики грядущего вернулись ни с чем. А что вы теперь снова люди, а не органы тела дракона — это прекрасно. Но тогда надо постигать сложную и не всегда приятную правду о себе как о людях. Надо взрослеть. Евтушенко и его читатели этого не хотели, они предпочли остаться вечными тинейджерами. В этом качестве они прекрасно устраивали и друг друга, и власти.
А тех, кто повзрослел, — не устраивали. Можно предположить, что и Бродского Евтушенко раздражал не как не по заслугам успешный человек (уж этот-то успех Бродскому был не нужен, у него был свой и гораздо более высокого качества), не как конформист, не как «совок» и советский поэт, а как вечный подросток, рисующийся, самовлюбленный, безответственный. Но ведь и Гумилев был таким. Другое дело, что в его случае это было личной чертой, а не социальной ролью. К тому же заведомо безопасной.
Но у этих инфантильных взрослых людей (иные из них Евтушенко эстетически или политически отвергали — а все равно оставались людьми одной с ним формации) была своя историческая трагедия.
Велик соблазн не думать о ней, судя об эпохе по наследию ее аутсайдеров, тем более что в собственно художественном смысле оно, как правило, гораздо значительнее. Какое значение имеют картины Коржева, Попкова и Жилинского — при наличии Шварцмана, Зверева, Арефьева? Музыка Щедрина — при наличии Шнитке и Губайдулиной? Стихи Евтушенко — при наличии Бродского, Аронзона, Сосноры, Сергея Вольфа, Чудакова, Красовицкого, Рейна, Горбаневской, Еремина, Сапгира, Айги, Всеволода Некрасова (это только шестидесятники, и список далеко не полон)?
Но искусство — одно дело, а история — другое. Мы вправе (и даже обязаны) игнорировать вкусы большинства людей, но не их опыт и судьбу. Евтушенко — это не про искусство, это про людей. Это не выход, не победа, не предмет любви и любования; это воплощение и свидетельство.
Сейчас, когда мы вновь испытываем тоску и ностальгию по будущему, которого история нас в очередной раз лишает, это свидетельство оказалось важным.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
Литература Театр
Театр Литература
Литература Искусство
Искусство
Победительница берлинского Encounters рассказывает о диалектических отношениях с порнографическим текстом, который послужил основой ее экспериментальной работы «Мутценбахер»
18 февраля 20221782 Общество
ОбществоКирилл Медведев о частном случае борьбы москвичей против девелоперов — который ведет к более широким вопросам локального активизма
18 февраля 20223743 Академическая музыка
Академическая музыка Театр
Театр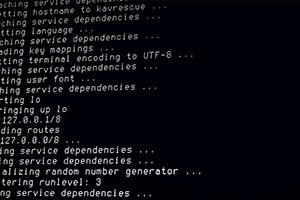 Общество
Общество
Андрей Мирошниченко о том, как цифровые медиа соблазняли человека, привыкшего к книгам
17 февраля 20223962 Colta Specials
Colta Specials Искусство
ИскусствоВасилий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»
16 февраля 20223867 Театр
Театр