 Литература
ЛитератураИстория о щеточке
 © Soda Pictures
© Soda PicturesУ текстов В.Г. Зебальда, стараниями «Нового издательства» начинающих жить на русском языке, за год с небольшим сложилась некоторая репутация: они воспринимаются как нечто общеобязательное («у кого нет Зебальда, тот sucks», как заметил издатель Александр Иванов) и вместе с тем пугающе-высоколобое: сядь у окна и слушай шум Больших Идей. Вопреки этому облаку ассоциаций Зебальд не навязывает себя и не требует себе соответствовать, его размеренность и учтивость заставляют скорее вспомнить книгу из семейной библиотеки, Дефо или Свифта — авторов, принадлежавших эпохе, еще способной в равной степени верить в справедливость провидения и силу человеческого разума. Этот текст вызывает почти физическое ощущение покоя, мерности, плавности, его ритм соразмерен читателю, в нем будто оказываешься дома. «Кольца Сатурна» — книга о пешем путешествии, и речь рассказчика будто движется со скоростью человеческого шага, то и дело сбавляя ход, чтоб остановиться на очередной истории.
Автор, или рассказчик, — для тех, кто еще не оказался в орбите Зебальда, важно пояснить, что текст со всеми его разрывами и отступами строится как бесконечный поток авторской речи, будь прогулка достаточно длинной, он мог быть рассказан от начала до конца — так вот, рассказчик «Колец Сатурна» в августе 1992 года отправляется в пешее путешествие по графству Саффолк, как уточняется в первой же фразе — «чтобы избавиться от охватившего меня чувства пустоты». Подобное лечится подобным: маршрут движения пролегает по бесцветным равнинам, вересковым пустошам, унылым серым ландшафтам. Города и поместья, где останавливается автор, давно пережили лучшие времена, в них нет ничего в туристическом смысле достопримечательного, они принципиально неувлекательны. Эта ровность, неразличимость пространства создает особые отношения со временем: самая малая малость, и травинка, и лесок, оказывается здесь спусковым крючком, катапультирующим рассказчика в ту или иную историю (с заглавной или строчной буквы).
Связь может быть прямой: вот город, в нем когда-то был оживленный курорт, или рыболовецкий промысел, или цепь сторожевых башен, сейчас же запустение и тишь (в которой рассказ о промыслах и башнях звучит особенно гулко). Иногда малая деталь запускает цепочку ассоциаций, и рассказ летит вдоль нее, словно по склону горы: вот мост, по которому когда-то ходил небольшой железнодорожный состав, и на корпусе паровоза можно было различить очертания китайского дракона — это достаточный повод, чтобы остановиться на подробностях восстания тайпинов, опиумных войн, правления императрицы Цы Си, истории шелководства в Китае — чтобы изящным движением вернуться в конце пути к давно исчезнувшему со сцены паровозику. Порой связь видимого образа и прячущейся за ним истории подчиняется странной логике сна: «С запада выплыли мощные кучевые облака и медленно натянули над землей серую тень. Возможно, эта мгла напомнила мне, что несколько месяцев назад из “Истерн дейли пресс” статью о смерти майора Джорджа Уиндема Ленстрейнджа…» — и история уже летит на всех парах к едва различимому персонажу, который вырван взглядом автора из вселенской мглы, словно заметка из газеты, чтобы через мгновение погрузиться в небытие.
 © Новое издательство, 2016
© Новое издательство, 2016Мир, по которому движется рассказчик (мы не знаем, насколько он равен писателю Зебальду), находится в упадке, все существенное с ним уже произошло, серо-белые тона, в которые раскрашен его ландшафт, — это пыль времен, пепел империй, рассказ проваливается в эту пыль, как в зыбучий песок. Со слов то ли реального, то ли вымышленного персонажа автор рассказывает о Флобере, в чьих снах бушевали песчаные бури, и покрывающий все песок казался ему подобием постоянно прогрессирующего, как он думал, собственного отупения. «В такие моменты ему казалось невозможным любое будущее писательство, более того, все написанное прежде представлялось ему сплошной ложью, чередой самых непростительных ошибок, последствия которых нельзя предугадать». Память в этом мире — не просто естественный модус существования (если все уже случилось когда-то, остается читать следы и выкапывать из-под песка черепки), но что-то вроде морального долга: анализируя химический состав этих почв, рассказчик неизбежно видит на приборной доске одну и ту же «череду непростительных ошибок». Эти места заброшены не потому, что «их не пощадило время», в каком-то смысле это наказание за безвинно пролитую кровь, за килотонны смертей и мегаватты страданий, на которых стоит обветшавшая цивилизация. Нагромождения жертв — не следствие случайных эксцессов, но сама суть истории: «Мы всегда непроизвольно переносим болезнь человеческого рассудка на другой вид, который считаем низшим и заслуживающим разрушения». В «Кольцах Сатурна» мы, оглядываясь, видим не руины, но безымянную братскую могилу, и авторская, да и просто человеческая добродетель состоит в том, чтобы хотя бы обозначить ее присутствие, не закрывать на нее глаза.
Английские корабли, сгоревшие в морском сражении с Нидерландами, немецкие города, сгоревшие под бомбами британских ВВС, зверства хорватов-усташей, геноцид в Конго, в Ирландии, в Китае — это страницы, вырванные из конвенциональной версии истории, это именно те миллионы жертв, у которых не нашлось заступника, предстоятеля, голоса, способного поведать о страданиях и быть услышанным. Рассказчик-Зебальд добровольно берет на себя эту роль, пустоши Саффолка оказываются универсальным порталом, направляющим его к временным пластам, где еще можно различить чужой беззвучный крик. Иногда жертвы лишены права голоса в буквально-физиологическом смысле: один из самых поразительных фрагментов «Колец» посвящен сельди — рассказчик описывает чудесные подробности ее устройства, неисповедимые пути миграции и леденящую в своей обыденности технологию ее умерщвления; в конце XVIII века только голландские моряки вылавливали за сезон до шести миллиардов особей.
«Считалось, что особая физиологическая организация рыб предохраняет их от страха и боли — но, если честно, о чувствах сельди мы не знаем ничего». В проекте «общего дела» Николая Федорова, как известно, речь идет просто о воскрешении мертвых — самое поразительное в этой идее, что воскресить обязательно нужно всех. Взгляд Зебальда заведомо неизбирателен: если ты жил и страдал — ты достоин если не оплакивания и увековечивания, то хотя бы упоминания, квадратного сантиметра на размытой зернистой фотокарточке, что разбивает типографский текст «Колец». Эта работа заведомо обречена: «мы воспринимаем лишь разрозненные огни в бездне неведения, в мироздании, наполненном глубокими тенями» — но чем она абсурднее, тем необходимее.
Кажется, пафос Зебальда чем-то сродни нынешним российским проектам по восстановлению исторической памяти, «возвращению имен» — но, во-первых, в его тексте принципиально нет пафоса, а во-вторых, в этой логике невозможно даже поставить вопрос о локализации этих страданий, об эпохах и людях, которые заслуживают памяти больше, чем другие; в его мемориальной вселенной нашлось бы место жертвам любых репрессий и зачисток — раскольникам, пугачевцам, сектантам, казакам, вогулам и вотякам; его работа памяти — не проект, но метод.
Зебальд будто показывает, как извлекать из земли нерассказанные истории, — и, возможно, для России это умение еще более ценно, чем для Саффолка. Зебальд подходит к своему предмету с бесстрастностью естествоиспытателя; его завораживают артефакты эпохи победившего разума — диаграммы, анатомические атласы, чертежи фортификационных укреплений в «Аустерлице»; но для рассказчика это не исчерпывающий способ описания реальности, а скорее свидетельство бессилия рацио — построенная по последним правилам крепость будет так же разъедена ветром и засыпана песком, как и все остальное.
Естествоиспытатель XVII века Томас Браун находит универсальный узор бытия в квинкунксе — шахматном порядке, образованном правильными четырехугольниками и точками пересечения их диагоналей; он видит эту последовательность и в мертвой материи, и во множестве живых существ. Зебальд, пытаясь различить траекторию движения всего сущего, различает иное: «История каждого существа, история любой общности и история всего света движутся не по красивой дуге, взмывающей ввысь, но по некой орбите, которая, достигнув меридиана, ведет вниз, во тьму». Мы обречены и вольно или невольно работаем на эту обреченность: подкручивая шестеренки цивилизации, легко не заметить, как они переламывают чьи-то кости. Единственной разумной стратегией выглядит неучастие, отдельность, «возвращение билета»; подобно тому как Томас Браун (или Борхес, чья тень то и дело возникает на этих страницах) составляет классификации диковинных и вымышленных существ, Зебальд заполняет свой каталог, перепись эксцентриков, диссидентов, отверженных, выпрыгнувших из универсальной машины воспроизводства страдания, — от упомянутого в газетной заметке майора, жившего в комнате с ручным петухом и просиживавшего день и ночь в собственноручно вырытой яме, до британского консула Роджера Кейсмента, отправлявшего в центр доклады о зверствах бельгийских колонизаторов в Конго, а затем отправившегося помогать ирландским повстанцам; «распознавшего угнетение, порабощение, эксплуатацию и истребление тех, кто дальше всего был удален от центров власти».
Рассматривать переплетение линий, образующих внутреннюю структуру «Колец», можно бесконечно: в документальном фильме Гранта Джи «Patience» один из исследователей Зебальда демонстрирует изготовленную им схему взаимодействия мотивов и персонажей книги — она занимает целую стену. Возможно, самый магнетический и труднопостижимый символ «Колец» мерцает уже на первых страницах, а в финале раскрывается в мощную полифоническую фугу. Для расшифровки того, что значит для Зебальда шелк, потребовался бы не словарь, но сонник: шелк здесь — одновременно тайный узор, скрытая в цивилизации порча, метафора письма и исследования, символ безмолвного уничтожения; ничто и все сразу. Проницательный (и не попавший пока в орбиту Зебальда) читатель мог бы заметить противоречие: ему были обещаны уют и покой, но все в этой книге — тайные шифры, траектории всеобщего упадка, гроб, кладбище — сулит скорее страх и трепет. Что ж, сочетание этих свойств — беспокойство и плавность, ощущение мерного, но неподвластного контролю движения, обыденные вещи как знаки чего-то непостижимого — знакомо всякому, кто вечером ложится спать; этот текст в каком-то смысле соткан из ткани наших снов. Это не пешая экскурсия, но течение, несущее тебя сквозь пласты времени, поток, в котором мерцают непостижимые соответствия, корабль-призрак. И самыми беспокоящими, тревожно всплывающими в памяти, как всегда во сне, оказываются случайные, не имеющие значения детали, о которых можно сказать лишь то, что они были: китайская перепелка, беспокойно мечущаяся в клетке, или жук, что беззвучно плывет по зеркальной поверхности воды, в черном сиянии, от одного темного берега к другому.
В.Г. Зебальд. Кольца Сатурна. Перевод с немецкого Эллы Венгеровой. — М.: Новое издательство, 2016. 312 с.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
Литература Театр
Театр Литература
Литература Искусство
Искусство
Победительница берлинского Encounters рассказывает о диалектических отношениях с порнографическим текстом, который послужил основой ее экспериментальной работы «Мутценбахер»
18 февраля 20221677 Общество
ОбществоКирилл Медведев о частном случае борьбы москвичей против девелоперов — который ведет к более широким вопросам локального активизма
18 февраля 20223582 Академическая музыка
Академическая музыка Театр
Театр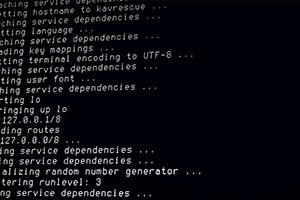 Общество
Общество
Андрей Мирошниченко о том, как цифровые медиа соблазняли человека, привыкшего к книгам
17 февраля 20223806 Colta Specials
Colta Specials Искусство
ИскусствоВасилий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»
16 февраля 20223656 Театр
Театр