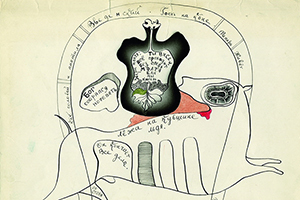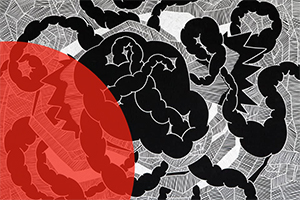16 июля исполняется 10 лет со дня смерти Александра Гольдштейна, прозаика и эссеиста, в 1990 году бежавшего из Баку в Тель-Авив и прожившего там — почти безвыездно — до конца жизни. В сорок лет, осенью 1997 года, Гольдштейн, что называется, проснулся знаменитым — после получения его первой книгой эссе «Расставание с Нарциссом» двух московских премий — Антибукера и Малого Букера — одновременно. Признание со стороны метрополии не побудило его идти комфортной дорогой востребованного эссеиста — с конца 90-х он сворачивает в сторону сложной прозы с редуцированным сюжетом, целиком сконцентрированной на языковой материи. Три его последующие книги имели несравнимо меньший — и с каждой книгой все уменьшавшийся — успех. До выхода последней — романа «Спокойные поля» — он не дожил. Но он не остался непрочитанным. «Деликатная непреклонность», с которой Гольдштейн, по слову Бориса Дубина, отстаивал свою эстетику, оказалась пусть с опозданием, но оценена — и не только теми, кого сам он считал или счел бы своими союзниками, от Саши Соколова до Михаила Шишкина, но и новым поколением, которое, как он до последнего верил, «читает, прочтет».
В 47-м номере тель-авивского журнала «Зеркало», которому Гольдштейн отдал немало сил, будут опубликованы воспоминания его вдовы, Ирины Гольдштейн. COLTA.RU благодарит «Зеркало» за возможность познакомить с этим текстом наших читателей.
Глеб Морев
Памяти Саши
Саша был, без сомнения, чудотворцем, сеявшим несметные чудеса и одним словесным касанием преображавшим предмет иль явленье, без него чахнувшие и угасавшие в мертвой трясине.
Он, мне всегда казалось, слагал параллельный общему незамутненный сновидческий коридор и, значит, реальность не только в книгах пересотворял, делая ее удобоприемлемой, снисходительной, в отличие от той, что была нам навязана чьей-то насмешливой волей.
Все держалось его усильем и награждалось иным, возвышенным содержаньем, будь то оса, рододендрон или какая-нибудь темнокожая душка-девица, его прихотью оснащенная аккадским профилем и прононсом и поглощенная царственным прообразом из шумеро-аккадского зала Британского музея. Или тупая истерзанная нищенка с тель-авивской набережной, рослая, кобылистая, в снаряженье для вечного бега, джинсах и замаранной кофте, вероятно, не одолевшая и букваря, начинялась им как-то иначе и вот уже его воленьем распевно читала стихи Миклоша Радноти. Мир был сносен, когда говорил его мягко-спокойным голосом, раздробленным на десятки голосов.
И чудное творилось на какой-нибудь обычной торгующей Бен-Йегуде, когда он, подойдя к витрине антикварной и воображаемой указкой дотронувшись до нарядного фиала, имитирующего эллинистический кувшин, его оживлял одной отмашечкой. И эта ваза расписная, с текущими на черном фоне анфасами, вдруг возвращалась к первобытию, к начертанному на ней и оживленному ритуалу и мифу, в котором юноша в хитоне, плеснув вином на неуклюжий белый жертвенник, испрашивал метаморфозы души.
— Мы принуждены оказывать помощь вещам и явлениям, — Саша говорил, — иначе они не очнутся, не выскочат из беспамятных гнезд, из каменных клещей мертвечины.
И так же, как только он один и мог, он оживлял захолустную нашу деревню, одним своим неистовым хотеньем разгоняя ароматы неизлечимых болезней, протухшего хека, эфиопских отравленных соусов и младенческой мочи (зачем нам хек, лучше коллекционируй орхидеи — он как-то сказал, навсегда перешибив мои кулинарные опыты). Скотское по своей сути повседневье взнуздать его не сумело — он распрягался и уворачивался, так что будни стекали по коже, не касаясь нутра.
Как-то его настигла у нас во дворе старая Зильпа в шелковом верхнем халате, с крашеною копной, шаркавшая под руку с девяностолетней, но крепкою мамой, спросив озабоченно — дескать, что в мире, какие новости? И он, тишайше улыбаясь, легкой пробежечкой пальцев сбив со лба черную с рыжим просверком прядь, своим всегда спокойным голосом рассказал им о нетленном теле XII Пандито Хамбо-ламы Итигэлова, буддиста, сына бурятского народа. Тело это, закопанное в землицу в кедровом коробе, в соли, спустя полвека извлечено было в поражающей воображение сохранности, в позе лотоса, с органикой, как у живого, с глазными яблоками, ногтями и волосами. То был, несомненно, пример снизошедшего благоуханного вечножительства, возможно, в состоянии самадхи — ободряющий и невероятный феномен, подтвержденный хвалеными ядерно-резонансными методами. И как же они были потрясены.
* * *
В его отношениях с книгами была, несомненно, магия, пламенная магия, и если ему, к примеру, требовалась какая-нибудь цитата, они с поклоном распахивались в нужных местах. Когда же он вздумал подчитать кое-что о гладиаторских баталиях, то в окнах русских книжников на обветшалой и шумливой Алленби моментально порасцветали истории меченосцев, каких-то чокнутых гладиаторских личностей. Бесноватых, с руками-ножницами, панцирных скиссоров, предтеч скиссоров нынешних, синематографических; легких летунов ретиариев иль, допустим, фракийцев живописных в тяжелых, с гребнями, шлемах.
Книги эти, наклевывавшиеся им в развалах и в извилистых букинистических чащах на Бен-Йегуде, были его броней, непробиваемыми металлическими доспехами. Они с тихим шелестом вылетали из двух наших древних платяных шкафов, стоило лишь дверцу прираспахнуть, и всегда припасены были в черной заплечной сумке, откуда он их выхватывал и читал на ходу. И все-то он помнил, из его вышколенной, ненасытимой памяти, втянувшей мильоны подробностей, не выветривалось ничего. Все проштудированные библиотеки шелестели в ней вроде пальмовых рощ, и для всего была своя преаккуратно убранная ниша, будь то какие-нибудь хеттские культы с самооскоплениями или современные стерильные новофилософские трактатцы, над коими он иронизировал. Иль, допустим, шахматные партии начала прошлого века (он лихо мог разыграть эндшпиль партии Капабланка—Алехин 1927 года).
Даже из всех кафе, обычно пролетавших мимо его зрения, он неизменно избирал хорошенькую, европейского стиля, стекляшку на Алленби, так называемое кафе «Централь». Избирал из-за того, что там посреди зала со столиками, над коими плыли свечные огоньки, были заперты в стеклянной крупной ячейке овидиевы «Метаморфозы».
Часто, часто он нырял на нижний глухой этаж тель-авивской автобусной к букинистам и поднабирал там книг. И как же он рад был старым метам на полях, когда неведомо чьи замечания (каких-то изгладившихся людей) вдруг очерчивали, как нечаянный всполох, иные эпохи и местности. Так уложенная под подушкой черемуховая ветвь тянет сон в символическое плаванье.
Как-то на двухтомной, начала тридцатых, тураевской «Истории Древнего Востока» из карандашной паутины выкроились иронически-восхищенные замечания, сопрягающие фараонскую вечность с поисками бессмертных эликсиров для помятых советских вождей. И он, схватившись за примечаньице, тотчас черкнул моментальный портрет тогдашней столицы новой вселенной, всесильной, энергичной, ловившей бессмертие, с невыветренными еще надеждами.
…Было у него отдельное собрание по древней истории, включая английские тома колоссальной «Кембриджской истории Древнего мира». Его трогали все атлантиды, утянутые, увлеченные на дно со своими смытыми истинами, утраченными историческими снаряженьями и живописными бесчинствами, потом медленно складываемые по молекуле, по урне с прахом, какой-нибудь потешной школярской табличке, а то и списку храмовых жертв, — и этой страстью я от него заразилась.
— Взгляни-ка — вот Ур Халдейский, — и он протягивал потертую книжицу. — И ведь, ей-богу, стоял же на глиняных кручах рекой омываемый ослепительный город, стеной опоясанный, светлый и узкий, чьи внутренние заботы непроницаемо темны, за исключеньем разве желания хоронить покойников поближе, под полом.
Был под теми же небесами — сверкал и стелился, шумный, шустрый, с дворами и дворовыми кухнями, вонью и солнцем на улицах и уж, конечно, с преувеличенным чувством божественного — храмы, храмы повсюду, с каменными кумирами, утешающими божествами. И чудно, празднично стояли в гавани речные баржи, мореходные парусные ладьи…
* * *
Воображать, он утверждал, значило видеть воочию сотворяемое; в этом было магическое. В книге последней, «Спокойных полях», писанных под сенью ангела смерти, заражавших неприкрытой своей печалью, магия громоздилась высокой волной — и захлестывала. Было в ней какое-то дальновидение, какие-то немыслимые глуби и утаенности, как если б он в забегах своих нырнул и коснулся спрятанного ядра. Иначе никак не объяснить эти пики прозрений и длящийся, длящийся гипноз, в котором я застревала; и ритмы — текст густой, как сосновый сплошняк, лился в ритмах нестерпимо торжественных, ему присужденных в предсмертное, освобожденное время.
Он, полагавший, что художнику пристало быть магом халдейским, наводящим лунное затмение, парящим в светоэллипсах чудодеем, способным вытряхнуть мрак из падшей материи, реальность пересоздал скрупулезно и чудно. И, невзирая на собственные обстоятельства, заставил ее воспарить, дабы, стряхнув тяготящее, стала такой, какой ей положено быть.
В «Полях» его столько сомнамбуличных парений, как если б он, сбежав из измерений дневных, проник в измерение тотальной свободы, осыпанное лунной мишурой. О, в сих пространствах фосфорического лунатизма дозволены хождения по карнизам — закона нет в них или же он столь искривлен, что допускает любые бракосочетания смыслов, любые сочетания фигур.
Добавлю еще кое-что: он, всегда бывший во вдохновенных, огненных состояниях, пытался выразить неуловимое; то, что бежит словесных сетей. В одном из меня пронзивших пассажей он точно, поразительно точно измерил самое предсмертье, им названное часом Пана. Час Пана? Скорей, час лопающихся жил, когда природою натянуты невидимые линии напряженья; вдоль них все остановлено. Вдруг все неживо — все, что казалось живым; не шелохнется лист; обездвижены бездыханные птицы; пейзаж будто залит слюдяною водой, и в ней исчезло движенье. А человек? человек не в силах пошевелить бесконечно тяжелой рукой в час трепета и панического предстоянья; пульсы скачут в яремной ямке, тело затопляет свинец; он врастает, врастает в пепельный полдень козлиного Пана…
* * *
Во времена предсмертные он думал о чуде; о чудесах халкидца Ямвлиха, возглавителя философской Сирийской школы, но, главное, касавшегося вечности чудотворца, писавшего в трактатах своих о состояниях, уводящих за человечий предел.
И в этой связи я не могу не вспомнить один эпизод. Однажды, когда Саша был еще независим от кислородного ящика, мы шли поздним вечером по переулкам ветхим старинной Лидды. Прошли насквозь Иерусалимский бульвар и, вбок свернув, заприметили торговую арабскую галерею, светившую неоновыми огнями, невзирая на поздний час. Из приоткрытых ее дверей плыла, как наваждение, музыка. Пением нежных скрипок, альтов и флейт, поддержанных глухими барабанными гулами, составлена была огненная, многократно повторенная фигура. И будто огнь все бежал и бежал по медленному фитилю и поджигал пространство.
Сквозь освещенные оконные плоскости видны были платками занавешенные стеллажи, а также освобожденная в центрах площадка — намек на близящееся представление иль, допустим, неведомый ритуал.
Сгорая от любопытств, мы встали под окнами — и вскоре выдвинулся управитель всей церемонии, мужчина невысокий в тюрбане, в галабее. По его знаку в круг встали темнолицые юноши и, чуть раскачиваясь, запели молитвы, а после пошли, ускоряясь, не прерывая пения. И тотчас свет замерцал — его попеременно гасили, включали, должно быть, во славу чересполосицы, равновесия света и тьмы.
То было гипнотичное зрелище — в пульсирующем помещении качались выпавшие из пространства, времени люди под пламенную, пламенную музыку, наподобие равелева «Болеро». И будто бы огнь исступленный бился в стальной барабанной клети и продлялся в танцорах, отражавших его колебания.
Захваченные зрелищем, мы постояли. Потом пошли застывшими каменными проулками, свернув на бульвар, где бледным усилием фонарей освещены были длинноствольные, тощие пальмочки. На виллах арабских кричали во сне павлины. На одичалом османском кладбище между рядами нежно-серых саркофагов, как бы проваленных в остановленную память свою (память, в коей было османское притязанье на мир), стояли, как безмолвные призраки, высокие араукарии, пара древних олив.
— Как поразительно, — я сказала, — танец, дервишский танец во тьме.
— Мне чудится в этом нечто большее, — Саша мне возразил, — в этом танце несомненная магия, попытка слияния с иным... с тем, что недоступно человечьим органам чувств. Путей в него нет — и танцорам известно об этом; но можно как будто в него врасти под серебристые свисты пановой флейты, под барабанную дробь иль стать на мгновение этим сокрытым, иным, проникнувшись неведомым состояньем…
Сумел ли он сам? О да, несомненно, сумел. Он, достигший вергилиевых текучих полей, полей пограничных, разостланных меж явью и сном, ушел из реальности, целиком из нее испарился, еще при жизни стряхнув с себя плотское, чтоб, невзирая на трубчатую машину, качающую кислород, поплыть средь своих видений. Где оплывающий, с подпалинами, гранат разрезан на веранде белокаменного города, освещенного прощальным светилом; трубящее в рог морское божество призывает к себе корабли. И, наподобие кометы Галлея, сверкает камея старинная с выпуклыми царскими ликами (Птолемей, Арсиноя) в матерчатом альбоме у изголовья образчиком космической, за тысячелетья не достигнутой красоты.
* * *
…Я в заключение хотела б упомянуть о том, что было для него истинно райским, — о книгах, спасительных книгах, соткавших безупречное укрытие, которое его не подвело.
Все в тех же «Спокойных полях», писанных в предсмертной маяте, поверх таких нескончаемых, не истощавшихся до последней минуты мучительств, что я б затопила ими верхний и нижний миры, он в конце примостил фотографический снимок, карточку остановленного, совершенного счастья. Припомнил коснувшуюся его тонким краем мимолетную райскость — тень райскую, слетевшую, когда был он в гостях у Карабчиевского Юрия, автора книги о Маяковском. Чей чуть примятый экземпляр в рыхлой черно-белой обложке хранится у меня по сей день, обведенный полегчавшим к вечеру солнцем.
Давно, давно это было — в начале девяностых, скорей всего, в девяносто первом, Карабчиевский принял его во временном тель-авивском пристанище, в тогдашнем центре, еще составленном из строеньиц скромных и низких, перебиваемых ванильными кафе с голубыми ставнями.
Сидели вдвоем в довечернее время на низком, облупленном, в плющевой рамке балконе, уставленном кадками с бархатными клематисами, с черным байховым чаем в китайских фарфорах. Говорили о книгах и только о книгах, не касаясь безынтересного прочего, и я живо себе представляю их, еще не исчезнувших, но исчезающих в солнечных ртутных оплывах, за столом с белыми чашками, ненадолго выхваченных из вечных хранилищ. Карабчиевский, худой, изморенный, с голым черепом и, в контраст к нему, чернейшей обильнейшей бородой (громадное чернильное пятно расползлось на белом), двигал в ладонях какой-то свежевыпущенный томик. Рядом густоволосый Саша с утонченным лицом и неотмирными глазами мял в пальцах необязательную папиросу; и тогда невиданное к ним будто бы снизошло. То было райское, подлинно райское, сбежавшее полунамеком, тонким настроем, то самое, выветрившееся, подзабытое, с никогда не истощавшихся небес — они оба ощутили прикосновенье недосягаемой сферы. Это первое их свидание стало свиданием последним; спустя год Карабчиевский принял смертельную снотворную дозу, Саша недолго ходил по своим райским садам.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Общество
Общество