 Литература
ЛитератураЯ верю в американскую церковь поэзии!
 Ласло Краснахоркаи на вручении международного Букера, 2015© Getty Images
Ласло Краснахоркаи на вручении международного Букера, 2015© Getty ImagesДивный новый мир, утвердившийся после annus mirabilis — 1989, вроде бы избавил жителей Восточной Европы (переименованной по этому случаю в Центральную) от комплексов изоляции и неполноценности. Оказавшемуся за границей венгру теперь не приходится смущенно объяснять, как называется столица его государства. Британцы устраивают в Будапеште stag parties, лондонские больницы чуть не под завязку укомплектованы венгерскими врачами, прошлогодний международный Букер достался венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, а последний «Оскар» за лучший иностранный фильм получил венгерский режиссер Ласло Немеш. Наконец-то все как у людей. Цивилизованный мир понятен, переводим и проницаем.
Только вот чтобы понять, что это не так, достаточно посмотреть внимательно тот же оскароносный фильм Немеша. Сначала кажется, что «Сын Саула» отдельно хорош в международном плане тем, что в нем почти нет слов, то есть (вроде бы) специфически национальной составляющей. Освенцим, которому фильм посвящен, — феномен если не мировой, то общеевропейский, и международная публика знает все подробности того, что там происходило, не хуже любого венгерского режиссера. Имеется, например, подробный анализ «Сына Саула», сделанный кинокритиком «Нью-Йоркера» Ричардом Броди: Броди считает первоисточником фильма Немеша документальную эпопею Клода Ланцмана «Шоа», чем и объясняет повествовательную скупость «Сына Саула». Немеш-де не разжевывает для зрителя, что именно происходит в фильме, потому что Ланцман уже проделал работу по воссозданию нарратива в своих интервью с несколькими выжившими членами зондеркоммандо. Молодой венгерский кинематографист просто подхватывает эстафету французского мастера. Как бы визуализирует то, что Ланцман в силу документальности своей ленты визуализировать не мог. За что получает заслуженную международную награду, и что главное — отметит любой, кто еще помнит изоляцию и комплекс неполноценности, — в этом наконец-то нет никакой местечковости.
Клод Ланцман действительно воссоздал нарратив Холокоста, тут не поспоришь, но вот только с чего Ричард Броди решил, что фильм Ласло Немеша именно о Холокосте как таковом? Ведь что там происходит? Венгерский еврей, член зондеркоммандо в Освенциме, пытается похоронить в соответствии с еврейским обрядом тело подростка, которого он называет своим сыном. Сын он ему или не сын, остается непонятным — важно то, что в своих маниакальных поисках раввина среди вновь прибывших в лагерь уничтожения венгерских евреев главный герой теряет порох, который он должен был передать своим товарищам, планирующим поднять восстание и взорвать крематории. Когда это выясняется, глава заговорщиков произносит едва ли не единственную значимую фразу во всем фильме: «Ты предал живых ради мертвых».
 © Индрик
© ИндрикИ вот тут, если знать, понимаешь, что фильм Немеша — это не пренебрегающая повествовательностью визуализация Холокоста как такового, а полуторачасовая парабола о Венгрии — ее одержимости прошлым (часто мифическим), ее приверженности форме и протоколу, ее замкнутости на саму себя и чуть ли не патологической неспособности действовать, когда действовать по всем параметрам необходимо. Только исходя из такой интерпретации можно понять, зачем режиссеру вообще понадобилось конструировать малоправдоподобную историю о человеке, ежедневно сжигающем сотни трупов, но при этом жаждущем предать земле какой-то один конкретный. Только зная, что Холокост в Венгрии воспринимается не только как общечеловеческий феномен (как, например, у Имре Кертеса), но и как сугубо национальная проблема, связанная с чрезвычайно сильным нежеланием общества признавать причастность страны к истреблению своих евреев, можно понять режиссерский прием почти насильственного погружения зрителя в реальность конкретного венгерского узника. Про Холокост международная общественность действительно все знает, но очень важных чисто венгерских смысловых слоев немешевского фильма не уловила.
За год до annus mirabilis, в 1988-м, один из главных современных венгерских писателей Петер Эстерхази обращался к зарубежной аудитории с такими словами: «Шанс быть понятым здесь и сейчас у меня примерно такой же, как если бы мне пришлось — воспользуюсь примером из моей основной и забытой профессии — толковать вам о минимаксимальных параметрах оценок Питмана, производимых в банаховых пространствах. Вы, любезный читатель, раздраженно склонились бы к ближайшему уху — что?! о чем он?! какой такой Банах? какой Питман?.. Но поскольку речь не о сложностях прикладной математики, то вы не будете склоняться ни к какому уху — что?! какая литература?! венгерская?» [1]
Получается, что радикально после 1989 года, года прекращения изоляции, почти ничего не изменилось. Объективно ничто больше не препятствует критику «Нью-Йоркера» изучать историю венгерского кинематографа, а читающей публике — знакомиться с произведениями венгерских писателей: переводится, особенно на европейские языки, очень и очень много. Но отчего-то не изучается, да и читается не особенно. Недавно я провела экспресс-опрос в пражской пивной, куда хожу уже много лет и где все меня знают. На вопрос, с каким именем ассоциируется у моих товарищей по пятничной кружке венгерская литература, не смог ответить ни один завсегдатай. Из этого можно сделать много разных выводов, но я остановлюсь на приятном: отрадно, что хотя бы в этом смысле Россия не сильно отличается от вполне себе продвинутой страны Центральной Европы.
Меж тем знать хоть что-то о венгерской литературе имеет смысл вовсе не потому, что знание — свет, а незнание — тьма. Причина, скорее, объективная: в последнюю четверть XX века на венгерском языке начала создаваться мировая классика — в том же самом смысле, в каком во второй половине XIX века она создавалась на русском. Романы Петера Надаша, Петера Эстерхази и Ласло Краснахоркаи появились, конечно, не из воздуха: за ними стоит мощная, пусть малоизвестная за пределами Венгрии, литературная традиция. Но если авторов, на которых выросли и которых любят Надаш, Эстерхази и Краснахоркаи, можно считать, как это ни обидно звучит для знатоков, представителями малой национальной литературы, одной из многих, то применительно к этим троим такая характеристика недостаточна. Не скажу, что через пятьдесят лет их будут изучать в школах по всему миру, потому что не верю, что через пятьдесят лет еще останутся хоть какие-то школы с четко установленной программой, но если сохранится человек, думающий над тем, как, зачем и для чего он есть, причем думающий посредством сложноустроенных словесных пластов, то он обязательно будет жить и думать вместе с этими тремя венгерскими романистами. Как минимум с тремя. Мой личный гамбургский счет давно перевалил за десять.
Собственно, дожидаться, пока ведущие венгерские романисты современности утвердятся в качестве новых Фолкнеров и Хемингуэев, а Нобелевская премия достанется еще какому-нибудь венгру, кроме покойного Имре Кертеса, совершенно не обязательно. Можно проявить инициативу и начать читать самостоятельно. Но здесь есть одна ловушка — в которую, собственно, и попал упоминавшийся выше знаменитый американский кинокритик. Тексты венгерских писателей не то чтобы герметичны, но очень богаты аллюзиями — как на ту самую «малую национальную литературу», так и на события большой национальной истории — большой в смысле длинной, насчитывающей больше тысячи лет, причем вся эта тысяча была в ходе свершившегося в XIX веке создания нации включена в активное народное сознание. Рефлексия над национальным мифом, пересчет многочисленных национальных трагедий, ирония по поводу того, как они переживаются и во что преобразуются в обыденном сознании, и еще тысячи разнообразных взаимодействий с материями, зарубежному читателю совершенно не известными, переполняют венгерскую литературу. Ничего об этом не зная, можно упустить половину прелести в сочинениях будущих мировых классиков.
Словом, все плохо. Мало того что никто не знает великих имен — даже когда узнают, не поймут и половины написанного. Все действительно плохо, но не безнадежно.
В России у желающих познакомиться с венгерской литературой поближе имеется теперь руководство. В прошлом году в московском издательстве «Индрик» вышла крайне полезная книжка «История венгерской литературы в портретах», созданная коллективом историков-унгаристов и переводчиков с венгерского. О последних нужно сказать отдельно: российские переводчики с венгерского — профессионалы высокого класса. Людям, читающим главным образом переводы с английского или немецкого, будет сложно поверить, что венгерские тексты в современных русских переводах избавлены от львиной доли тех ляпов, бессмысленных языковых калек и дефицита словесного воображения, которые мы повсеместно встречаем в переводах с «больших языков». То есть нет худа без добра: чем труднодоступнее феномен, тем меньше безответственных с ним взаимодействий.
Название у «Истории венгерской литературы в портретах» обманчивое, если иметь в виду сосредоточенность современного сознания на картинках. Портреты там действительно имеются, но они примерно такие же, как в Википедии. Слово это фигурирует в названии в том смысле, что коллектив авторов не пытался представить общую картину развития венгерской литературы с принципами, тенденциями и взаимовлияниями, не придерживался какой-то особой концепции истории и не претендовал на всеохватность. В книге просто рассказывается о венгерских классиках: кто такой, чем жил, что написал и почему классик. Получается как бы портрет.
Причем на фоне. Авторский коллектив прекрасно понимал, что расписывать литературные достоинства, например, Шандора Петефи совершенно бессмысленно без рассказа о венгерской революции 1848 года, в которой он принимал непосредственное участие и жертвой которой пал. Без войны за независимость и ее последствий для дальнейшей судьбы страны просто не было бы феномена Петефи. Точно так же вряд ли имеет смысл рассказывать об Иштване Эркене, если не совмещать его человеческую и писательскую биографию с венгерской историей XX века, в которой венгерский гражданин еврейского происхождения мог попасть на русский фронт и сражаться там на стороне немцев, не всегда понимая, от какой из воюющих сторон ждать большей беды.
Портретов в итоге получилось тридцать штук, а история, как и любая стандартная венгерская история, начинается с четырехсотлетних блужданий угорских племен по просторам Евразии в поисках родины. И если так изложенная история смотрится довольно органично, поскольку именно в таком виде она была сформирована в качестве национальной в XIX веке, то первый же литературный портрет, появляющийся на этом фоне — причем, со всей неизбежностью, довольно поздно, в XV веке, — ничего специфически венгерского в себе не несет. Портрет этот изображает Яна Паннония (1434—1472) — поэта, гуманиста и верховного канцлера при дворе короля Матьяша Корвина. Сопровождающая текст картинка, кстати, кисти самого Мантеньи — великий падуанец написал портрет Паннония и его университетского друга Марцио Галеотто. Университет был, понятное дело, Падуанский, а стихи Ян Панноний писал на латыни. Да и происхождения он был не то чтобы очень венгерского: родился на территории нынешней Хорватии, друзья-итальянцы (ох, это тоже анахронизм!) называли его славянином. Поэт Ян Панноний венгерский лишь постольку, поскольку состоял при дворе самого выдающегося венгерского короля за всю историю существования этих королей — с современной точки зрения, разумеется. Хорваты, впрочем, думают иначе. Посыл авторов-составителей уловить, конечно, можно: в Венгрии тоже был свой Ренессанс. Только вот может ли он заинтересовать иностранного читателя?
Пропустив Балинта Балашши (1554—1594) — поэта, сочинявшего уже по-венгерски, — попадаем на еще одного «хорвата». Как любят писать в путеводителях по Загребу, объясняя название одной из его площадей, «бан Хорватии Никола Зринский был в то же время крупным венгерским поэтом Миклошем Зрини (1620—1664)». В первой эпической поэме на венгерском языке «Сигетское бедствие» Миклош Зрини описал историю месячной осады османскими войсками крепости Сигетвар, героем которой был его прадед, тоже Миклош Зрини. Крепость в итоге пала, Зрини погиб, а султан Сулейман Великолепный умер во время осады от измождения и горя. Поход на Вену туркам пришлось отложить. Вряд ли это нагромождение Зрини-Зринских сильно окрылит души стремящихся к знакомству с венгерской литературой, тем более что поэзия XVII века — как минимум когда читаешь ее не на языке оригинала — порой кажется подозрительно похожей на пустые риторические формулы:
Лишь добродетелям могила не предел,
Тот будет вечно жить, кто справедлив и смел,
Пребудет навсегда величье добрых дел,
Бессмертье славное — счастливый их удел.
Настоящую занимательность «История венгерской литературы в портретах» обретает в районе сотой страницы, когда дело доходит до начала XIX века — эпохи общественного подъема, возникновения языкового вопроса и обретения литературой крайне важного статуса созидательницы языка. Возможно, отсюда и следовало бы ее начинать — во всяком случае, отсюда она начинается для обыкновенного читателя-неспециалиста, как история русской литературы начинается с Пушкина: до Пушкина писатели тоже были, но когда понадобится, Пушкин нам сам о них расскажет. Словом, родными все вышеперечисленные ранние венгерские авторы могут стать русскому читателю, только когда он прочитает о них — в нужном контексте и с нужной интонацией — у авторов более поздних.
Настоящей отправной точкой (исторически) для жаждущих расширить свои знания о венгерской словесности, очевидно, является главный венгерский романист XIX века Мор Йокаи (1825—1904) — он такой занимательный и безо всякой глупости жизнеутверждающий, что, прочитав один роман, обязательно прочитаешь хотя бы еще один. И здесь, в «Портретах», очерк о нем получился у Юрия Гусева тоже отличный: «Йокаи — писатель с удивительно легким пером; действие даже в самых серьезных его романах летит вперед стремительно, как колесо под гору» (с. 150). Дальше, впрочем, Гусев сетует на относительную безуспешность Йокаи за границей: «Йокаи в переводах воспринимался в лучшем случае как венгерский Дюма-старший. Иначе, видимо, и быть не могло. Ведь в переводах <…> пропадала венгерская музыка, венгерский строй его фразы, венгерские особенности мысли и душевного склада его героев, венгерская “логика”» (с. 151). Характеристика, исполненная большой любви и, к счастью, не относящаяся к сделанным уже в 1970-е годы хорошим русским переводам: там венгерские особенности мысли у Йокаи просматриваются без труда.
Все писатели, следующие в «Портретах» за Мором Йокаи, так или иначе представлены на русском — кто больше, кто меньше, кто совсем еле-еле, но подборка портретов хороша уже тем, что ориентирует в массе имеющихся переводов: интересующимся становится понятно, кого искать в первую очередь в букинистических магазинах и библиотеках. Поэтому чем больше цитат в каждом конкретном очерке, тем он полезнее: создавать самоценные в художественном смысле эссе о венгерских писателях в задачи авторского коллектива не входило, а в текстах чисто информативных помимо биографических сведений и литературных параллелей самое полезное всегда — цитаты. В этом смысле замечательные очерки получились о Яноше Аране (1817—1872), Дюле Круди (1878—1933), Деже Костолани (1885—1936) и о писателях второй половины XX века: Иштване Эркене (1912—1979), Имре Кертесе (1929—2016), Петере Эстерхази (р. 1950), Петере Надаше (р. 1942).
Еще одна удача сборника — избранная библиография в конце. Чем дольше живешь в век интернета и доступности всего с первого клика, тем больше начинаешь ценить вот такие списки на пять с небольшим страниц: почти все существенное и ничего лишнего. Отдельно люди интернет-эпохи удивятся, когда обнаружат, сколько переводов с венгерского издавалось в конце 1980-х годов, — удивятся, собственно, тому, что никто до сих пор не сподобился отсканировать и выложить все это в открытый доступ. Островки традиционности и законопослушания находишь порой в самых неожиданных местах.
Но вернемся к сборнику. Есть среди тридцати портретов два групповых. Первый посвящен литературному журналу «Нюгат», выходившему с 1908 по 1941 год. Этот журнал печатал всех значительных венгерских авторов своего времени, и очерк, ему посвященный, дает хорошее представление о роли, которую «Нюгат» сыграл в венгерской литературе XX века. В связи с «Нюгатом» можно пожалеть только о том, что единственный русский сборник с материалами из этого журнала [2] не вполне читабелен из-за чрезмерной идиосинкратичности помещенных там переводов.
Ко второму групповому портрету сборника, очерку «Народные писатели», вопросов, в общем, нет — он замечательно информативен и прекрасно объясняет смысл социографической традиции в венгерской литературе межвоенного времени, заодно давая понять, что ничего общего с российскими «народными писателями» типа Спиридона Дрожжина Дюла Ийеш и Ласло Немет не имеют.
Вопрос, скорее, возникает в связи с отсутствующим третьим групповым портретом, в котором мог бы быть представлен Миклош Месей (1921—2001), причем не столько как автор собственных текстов, сколько как литературный институт, о значительности которого осведомлен любой русский любитель Петера Надаша и Петера Эстерхази — осведомлен как раз до такой степени, что хотелось бы прочитать подробный очерк. Но его нет, увы и ах, и сознание любителя современной венгерской словесности обречено теперь на коллекционирование подробностей для собственного мифа о Месее.
Еще о лакунах: зияющее отсутствие Ласло Краснахоркаи (р. 1954) объясняется, очевидно, тем, что на момент выхода «Портретов» этот автор по-русски был представлен только несколькими рассказами. Что жаль. Потому что переводы неизбежно появятся, а «Портреты» так и останутся без Краснахоркаи.
О прочих отсутствиях можно дискутировать. Скажем, лично мне не хватает очерка о Милане Фюште (1888—1967) — его весьма необычный роман «История моей жены» (1942) имеется в хорошем русском переводе; о Шандоре Мараи (1900—1989), представленном по-русски, увы, только в отрывках, или об Антале Сербе (1901—1945), не переведенном, кажется, вовсе, но от этого не менее интересном. Еще один важный для внимательных читателей Петера Эстерхази писатель — Геза Оттлик (1912—1990). Его «Училище на границе», которое Эстерхази сподобился переписать от руки, выходило в 1983 году в русском переводе, а про автора хотелось бы почитать в «Портретах». Отдельно обидно, что эти лакуны не восполнены хотя бы в библиографии: указания на имеющиеся переводы из писателей, не удостоившихся портретов в сборнике, не сильно бы ее удлинили, но зато она была бы исчерпывающей.
Это, впрочем, скорее, вопросы для какого-то следующего проекта по истории венгерской литературы, а не для этого первого за последнее время и уже только поэтому замечательного сборника.
Замечателен он, к сожалению, и как иллюстрация огрехов и несогласованностей, без которых редко обходится коллективный труд. Скажем, на стр. 18 можно прочитать, что королевская грамота короля Эндре II, Золотая булла 1222 года, закрепившая привилегии венгерской знати, на семь лет опередила английскую Великую хартию вольностей. Семь лет — цифра правильная, только булла не опередила, а опоздала: она была дарована через семь лет после появления в 1215 году Magna Carta. Идем дальше. На стр. 22 говорится, что первый венгерский университет основал Лайош I в Пече (1367), на стр. 67 — что Петер Пазмань в Надьсомбате (1635), а между этими упоминаниями рассказывается об учреждении в 1389 году университета в Обуде. Все эти три университета наверняка в каком-то смысле первые, но человека, не совсем осведомленного в тонкостях истории высшего образования на территории исторической Венгрии, лучше бы с самого начала так не запутывать. Опечаток в книге тоже чуть больше, чем хотелось бы: то Михай Вёрёшмарти попадает вдруг со всеми своими основными произведениями в XX век (с. 108), то Петер Эстерхази меняет месяц рождения с апреля на июль (с. 368), то советские войска выводятся из Венгрии почему-то в 1989 году, а не в 1990-м, как подскажет простая память на новости любому человеку старше сорока (с. 357).
Но это все понятные огрехи общего редактирования, которые сразу же забываются. Что забывается гораздо хуже — так это вездесущие метеорологические метафоры, бич литературоведческих текстов. Метафоры эти такие яркие в своей клишированности, что лучше сразу их обезвредить, составив, на чеховский манер, их список: «по небосводу венгерской литературы Шандор Петефи промчался как комета» (с. 118), «во втором десятилетии XX в. мощное цунами авангарда докатилось и до Венгрии» (с. 236), «этот перелом вполне можно было бы назвать Великой Постмодернистской Революцией — настолько влияние эстетики и, шире, мировоззрения, мировосприятия, свойственных постмодернизму, затопило все пространство духовной жизни. Затопило, подобно весеннему половодью» (с. 366).
Клише плохи тем, что они мгновенно создают вокруг себя закрытую среду, не особенно связанную с реальностью и управляемую исключительно внутренней логикой. С половодьем надо справляться, и вот уже безобидная поначалу метеорология оборачивается натуральным профсоюзным собранием: «В 90-е годы был очень популярен — в среде литераторов, да и читателей тоже — броский bon mot венгерского писателя, после 1956 г. жившего в эмиграции на Западе, Дёзё Хатара: дескать, писатель должен мыслить не в категориях народа и нации, а вовсе в категориях подлежащего и сказуемого. Как ни впечатляюще это звучит, в венгерской литературе, да, видимо, и в других литературах подобное невозможно». Понятно, что в странах развитого социализма и народной демократии вопрос общественной значимости литературы так долго удерживали в повестке дня, что без него теперь как без рук, но Хатар-то чем виноват? Фраза, ему здесь приписываемая, родом вовсе не из 90-х, а из самых что ни на есть 80-х и легко обнаруживается на первых же страницах «Малой венгерской порнографии» Петера Эстерхази: «Спокойней будет, если, конечно, писатель станет думать в категориях подлежащее—сказуемое, а не народ—нация. Не потому, что он бездомный негодяй. А потому, что если и хорош немножко, то и тогда он по уши во всем этом, а если ни капли не хорош, так зря витийствует: только украшательством занимается… Любовь к родине — это вопрос качества» [3]. Сам же Эстерхази, как подсказывают мне знатоки, по своей постмодернистской привычке заимствовал эти слова из дневника Шандора Мараи за 1968 год. А досталось эмигранту Хатару, устроившему диверсию в виде половодья на оставленной родине. Эстерхази бы понравилось. У него в «Порнографии» фразе о подлежащем и сказуемом как раз предшествует рассуждение о регулировании Тисы.
В мою же личную анекдотическую память «История венгерской литературы в портретах» вошла пассажем, посвященным поэту-полиглоту XVI века Балинту Балашши: «Отпрыск древнего рода, корни которого ведут к хазарам, когда-то давным-давно присоединившимся к кочующим мадьярским племенам, — Балинт едва ли не с младенчества воспитывался как воин. <…> Как гласит семейное предание, первого своего турка Балинт убил в шестнадцать лет» (с. 51).
И это в своем роде даже хорошо. Иной читатель теперь уж точно прочитает Балинта Балашши (запомнился! да еще и доступен в «Литпамятниках»), а «История венгерской литературы в портретах» — отчего бы на это не понадеяться — будет читаться и многие годы после того, как идиома Кадырова перестанет узнаваться в качестве таковой. Мир теперь понятен, переводим и проницаем — наверняка мы сами скоро забудем, что эта фраза значила что-то особенное в России начала XXI века.
История венгерской литературы в портретах / Авторский коллектив: Д. Ващенко, Ю. Гусев, Б. Желицки, Н. Куренная, Е. Масленникова, В. Середа, А. Стыкалин, О. Хаванова, Е. Шакирова, О. Якименко. — М.: Индрик, 2015
[1] Эстерхази П. Рыбешка // Записки синего чулка и другие тексты. Пер. Вячеслава Середы. — М.: НЛО, 2001.
[2] Страницы одного журнала: In Memoriam Nyugat. 1908—1919. — М.: Водолей, 2009.
[3] Эстерхази П. Малая венгерская порнография. Пер. Оксаны Якименко. — СПб.: Symposium, 2004. C. 16.
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
Литература Искусство
Искусство Литература
Литература Искусство
ИскусствоЛюбовь Агафонова о выставке «Ars Sacra Nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов»
14 февраля 20223304 Академическая музыка
Академическая музыка Искусство
Искусство Молодая Россия
Молодая Россия Театр
Театр Кино
Кино Современная музыка
Современная музыкаКак перформанс с мотетами на стихи Эзры Паунда угодил в болевую точку нашего общества. Разговор с художником Верой Мартынов и композитором Алексеем Сысоевым
10 февраля 20223599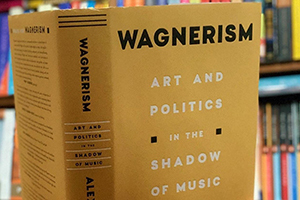 Литература
Литература Искусство
Искусство