 Colta Specials
Colta SpecialsБез будущего
 © Getty Images
© Getty Images— Вы пришли в кино из театра. Вы тогда противопоставляли кино театру? Знали ли вы, чего хотите избегать в работе над фильмами?
— Нет, я не думала о том, чего я не хочу делать. Я хотела работать с естественным светом. В театре все всегда происходит под искусственным светом и в закрытом пространстве. Я хотела выйти из этого пространства из-за света. На улицу, в уже существующие пространства, а не в специально построенные. И еще я хотела писать. Не потому, что меня больше не интересовали готовые пьесы. Я просто хотела писать. И все, что в процессе моей работы в кино стало отличаться от моего театрального опыта, вышло из этого желания.
— Вы ушли из театра, но продолжали работать с театральными актерами.
— Все то время, что я играла в театре, я каждые два года меняла театр и город. Поэтому знала очень многих театральных актеров. Можно даже сказать, что я в основном общалась именно с театральными актерами. У меня не было какого-то круга постоянных друзей. Ты меняешь место, но всегда остаешься с актерами. Хотя я с самого начала много работала и с театральными, и с непрофессиональными актерами. И до сих пор я рассматриваю разные возможности.
— Вы часто раньше играли в ваших собственных фильмах. Почему теперь перестали?
— Да, раньше я чаще играла, но не потому, что я обязательно хотела играть. Это просто было практично. А в последние годы не было такой роли в моих фильмах, для которой я бы не нашла подходящую актрису.
— На вашей ретроспективе я еще раз пересмотрела все ваши фильмы. И, когда их смотришь вот так подряд, складывается впечатление, что это некий единый мир с повторяющимися героями, мотивами, образами, фрагментами историй. Но это, по всей видимости, ненамеренно?
— (Смеется.) Да, у меня не было таких намерений.
— Но как вы выбираете профессии героев? Они часто переходят из фильма в фильм.
— Хорошо. Есть, например, профессия фотографа. Особенно вначале у меня часто кто-то был фотографом. Потому что фотограф — это тот, кто стоит в стороне и наблюдает. И, в конце концов, это и моя позиция. Мужчина это или женщина — не играет никакой роли.
— Еще из повторяющихся профессий — актриса.
— Долгое время мне казалось очень странным говорить актеру: теперь ты будешь не актером, а учителем. А потом мне как-то сказал один актер: я именно поэтому выбрал профессию актера, чтобы иметь возможность иногда становиться и учителем (смеется). На что я ответила: о'кей, поговорим об этом после того, как снимем фильм. С другой стороны, всегда были исключения. Например, в фильме «Места в городах» мать героини — рабочая. И я снимала на фабрике. Или в «Марселе» тоже есть рабочие.
— Или в «Сказочном пути» есть бездомный.
— Да. Но все-таки можно сказать, что в центре моих фильмов — буржуазия, частью которой, разумеется, я тоже являюсь. Это то, что я хорошо знаю.
 Кадр из фильма «Счастье моей сестры» (1995)
Кадр из фильма «Счастье моей сестры» (1995)— Вы упомянули, что ваша позиция — наблюдать. Я заметила, что буквально в каждом вашем фильме есть такой кадр, когда кто-то стоит у окна и смотрит на улицу. То есть он находится в квартире или доме, но мыслями — снаружи. И даже после показа ваших короткометражек вы сказали, что относительно недавно у вас была идея снять короткий метр, для которого у вас были придуманы только две сцены: первая — птица гадит на голову прогуливающейся женщине, а вторая…
— (Смеется.) А вторая — что она стоит, вымыв голову, в номере отеля и смотрит из окна на улицу (смеется). Надо же, как интересно (задумывается)… Мы живем в домах. Это играет свою роль, накладывает на нас свой отпечаток. Но в то же время это самое естественное на свете. И все-таки из-за этой естественности мы не должны относиться к этому факту менее серьезно. Дом предлагает нам защиту. В моих фильмах есть разные дома. Это всегда осознанный выбор, какие дома я показываю. Они могут быть в центре города, как в ранних фильмах. Или же это оставленные школы в заброшенных деревнях, из окон которых смотрит осел. Главное — что есть некое пространство, которое предлагает нам защиту с возможностью взгляда на то, что находится снаружи, где никакой защиты нет.
— Продолжая тему наблюдения. Наблюдать — это естественный процесс для режиссера-документалиста. Вы в своих фильмах очень много наблюдаете, и все-таки вы принципиально не снимаете документальных фильмов, кроме ранней короткометражки про Прагу «Прага, март 1992 года».
— Дело не в том, что мне неинтересно снимать документальные фильмы. Просто эти методы работы мне не близки. На примере фильма о Праге я поняла это очень четко. По семейным причинам, будучи ребенком, я каждый год приезжала в Чехию, в том числе в Прагу.
— Вы говорите по-чешски?
— Как раз нет. И именно это было важно. Я здесь родилась. И в моей жизни Чехия присутствует как некий фон, с которым я по-настоящему не могу найти контакт, так как не говорю по-чешски. Я там бывала один раз в год, не чаще. У меня была идея: я еду в Прагу, там мы встречаемся с Богумилом Грабалом, он читает отрывок из своей «Волшебной флейты», который по-прежнему в коротком метре, и я задаю на улице людям один вопрос: если бы они сейчас имели возможность что-то подарить человеку, которого любят, что бы это был за подарок? Этот вопрос мне написали на табличке по-чешски. И так я задавала вопрос прохожим на улице, таксистам и другим случайным людям, но совершенно не понимала, что они мне отвечают (смеется). Поэтому не возникло никаких разговоров: был вопрос, и был ответ. И мы снимали то, что сейчас осталось в короткометражке: перекрестки и Грабала в больнице. Потом я вернулась домой и попросила перевести то, что мне отвечали все эти люди. И это оказалось настолько интимным…
— Именно потому, что они видели, что вы их не понимаете?
— Наверное. Конечно, снимая, я уже это как-то замечала. Например, одна женщина начала плакать. Я чувствовала, что они говорят о чем-то очень личном. Но я не понимала. Я думала: отлично, у меня есть хороший материал. Но, когда я узнала, о чем они говорили, я подумала, что не имею права это использовать. Это слишком далеко зашло, но я-то ничего особенного для этого не сделала. Я же всего лишь задала один вопрос. В чем моя-то заслуга?
— Можно сказать, что этот опыт повлиял на ваш метод работы с актерами?
— Конечно. Не проблема добиться эмоций от актеров. Каждый хочет тебе дать эти эмоции. По разным причинам. Актер хочет показать, что он профессионально может сыграть. Незнакомец на улице — потому что он в данный конкретный момент растроган и не может себя сдержать. Но фильм… означает для меня не показать кого-то, кто чем-то растроган или движим какой-то идеей, а растрогать или побудить к чему-либо зрителя. И это совсем не одно и то же. Поэтому я не использовала отснятый материал. Это была моя первая и последняя попытка снять документальный фильм, потому что, даже когда я смотрю чужие документальные фильмы, я думаю о том, с чего вдруг я могу решить взять и присвоить все это себе. Речь не о том, что я не понимаю, что есть документальные фильмы, которые очень серьезно и профессионально работают с материалом. Это просто противоречит моему собственному методу работы.
 Кадр из фильма «Я осталась на лето в Берлине» (1991)
Кадр из фильма «Я осталась на лето в Берлине» (1991)— В каждом вашем фильме кто-то из героев обязательно говорит о понимании. «Ты меня не понимаешь», «когда-нибудь ты меня поймешь» и другие вариации. И даже в вашем раннем фильме «Я осталась на лето в Берлине» есть сцена, где писательница, которую вы играете сами, встречается с редактором, и он говорит ей о разнице между профессиональным писателем и любителем. Профессионал хочет быть понятым и думает о читателе, а любитель думает только о себе. За эти годы поменялось ли ваше представление о понимании?
— За эти годы не изменилось то, что 9 из 10 редакторов (в Германии большую часть бюджета фильма составляют деньги телеканалов или федеральных фондов, чьи редакторы выбирают проекты для финансирования и предлагают их на рассмотрение комиссии. — Ред.), которых я встречаю, ожидают, что я сейчас им наконец объясню то, чего они не понимают в сценарии. Но изменилось ли мое восприятие… (Задумывается.)
— Уточню. Сейчас вам кажется, что вас больше понимают или меньше? Например, у вас есть преданные поклонники. Но я также знаю довольно много людей, которые не любили ваши фильмы, никогда их не понимали, и тут о фильме «Я была дома, но…» все вдруг говорят — гениально. Все вдруг неожиданно всё поняли.
— (Долго смеется.) Я не уверена. Не могу сказать, что я чувствую себя больше понятой. С другой стороны, важно то, что сейчас у меня уже много фильмов. Для такого человека, как я, который работает как бы по ту сторону от того, что в основном снимается и финансируется, это действительно важно: насколько долго такой человек смог продержаться и сколько смог снять. Если это существует уже долгое время, больше 20 лет, то, видимо, это жизнеспособно. Но чувствую ли я себя больше понятой, чем раньше, я правда не знаю. Я также не знаю, какую роль играет приз Берлинале, помогает ли он в восприятии моих фильмов.
— В своих фильмах вы никогда не смотрите на людей с иронией, но у вас очень много юмора, в том числе в диалогах. Когда вы их пишете, вы читаете их вслух?
— Да, обязательно.
— Смеетесь иногда?
— Да, я очень много смеюсь. Гораздо больше, чем зрители моих фильмов. Мне кажется, это действительно смешно.
— В ваших фильмах герои, когда не могут что-то выразить словами, часто наносят себе какие-то увечья — преднамеренно или нет. Но есть ключевые монологи, в которых героев, наоборот, прорывает, они выговаривают то, что, возможно, долгое время таили в себе.
— Да, это есть в «Сказочном пути».
 Кадр из фильма «Я была дома, но…» (2019)
Кадр из фильма «Я была дома, но…» (2019)— Да, и в «Марселе», в «После полудня», в «Я была дома, но…» Когда возникают эти монологи? В самом конце, когда уже написан весь сценарий?
— Да, почти в самом конце, так как и в историях они произносятся почти в самом конце, а я пишу всегда в хронологической последовательности. Мне кажется, моя любовь к монологам связана с моим театральным прошлым. С театральной литературой, которую я много читала. И с возможностями монолога. Мне нравится, что кто-то в какой-то момент может высказаться. И это ведь прекрасно, когда вдруг возникает сцена и ты думаешь: вот у кого-то наконец появилась возможность говорить. Например, в «Я была дома, но…» это происходит во время встречи между режиссером и Марен. Я знала, что режиссер будет очень внимательно слушать, потому что он хочет получить работу в вузе, где она преподает. По идее, он должен интересоваться ее мнением. И он действительно искренне интересуется. Этот интерес — важная часть того, что вызывает в героине Марен такой словесный поток. Так возникает ситуация, в которой кто-то может говорить. Ведь это прекрасно — когда кто-то действительно внимательно слушает.
— Мне кажется, многие немецкие режиссеры избегают называть конкретные города или показывать узнаваемые места в этих городах. Вы же, наоборот, всегда декларируете названия городов (Марсель, Берлин, аэропорт Орли в Париже), и камера не стесняется показывать практически туристические места в этих городах. Кажется ли вам, что определенные истории могут происходить только в определенных местах?
— Нет. Но я также не стыжусь назвать место его собственным именем. Мне это интересно. Если я выбрала какой-то город для съемок — например, Марсель, — то он начинает играть роль, и я хочу его показать, хочу, чтобы он был узнаваем.
 Кадр из фильма «Марсель» (2004)
Кадр из фильма «Марсель» (2004)— Когда я пересматривала «Марсель», я подумала о том, что сейчас эта история не смогла бы произойти. Потому что нам больше не надо обязательно с кем-то лично встречаться, чтобы снять квартиру в чужом городе или арендовать машину. Все это стало безличным.
— Абсолютно точно. Это очень знаковый пример изменений, которые произошли в мире за это время. Это тенденция к тому, что больше ничего не может произойти, потому что все может быть спланировано. Сейчас есть попытка исключить случайность, что, конечно, никогда полностью не удастся.
— Как раз хотела спросить про случайности. На Viennale я была на дискуссии с Дени Коте, и он сказал, что делит свои фильмы на живые и мертвые. Мертвые — это продуманные игровые фильмы, которые полностью следуют написанному им сценарию. А живые — это экспериментальные фильмы, где есть место случайности, где он сам как режиссер многого не понимает и остается заворожен этим непониманием. Есть ли в ваших фильмах такие моменты? Есть то, что вы сами не понимаете?
— Разумеется. Я вообще ничего не понимаю (смеется). Конечно, я все контролирую, но случайность — всегда часть процесса. Для меня случай — это гораздо более основополагающее понятие. Если я что-то пишу, это не означает, что от этого оно стало более предсказуемым. Даже мое обращение с самой собой. Я как бы отпускаю себя в неизведанное — в написание. Мне не нужен кто-либо другой, чтобы это стало непредсказуемым. Мне также не надо заставлять кого-то импровизировать. Я импровизирую сама с собой. То, что я пишу, зависит от того, в какой ситуации я пишу, в какой день, что было до этого. Я ни в коем случае не ощущаю себя полностью спланированной. Думаю, это понимает и Дени, хотя я не знаю, как он работает. Каждый всегда сохраняет то, что он только что написал. Если бы это было так, как говорит Дени, то он мог бы не сохранять, а на другой день сесть и написать то же самое, если писание настолько предсказуемо. Это чушь. Мне кажется, то, что я не написала сегодня, навсегда утеряно.
— Вы пишете каждый день?
— Нет, именно что нет. Сейчас я не могу писать, потому что постоянно разъезжаю, не могу быть одна.
— Я была на вручении дипломов в DFFB, где вы произносили речь и показывали короткий метр с Тарковским и лошадью. Там Тарковский дает напутствие новому поколению, говорит, что им нужно учиться одиночеству. И такое же напутствие вы давали студентам-режиссерам. Но режиссер — не писатель. Ему также важно уметь быть в команде, коммуницировать. Как вы находите баланс?
— Я нахожу баланс лишь потому, что вынуждена его найти. Я знаю, что обязана это сделать, и поэтому прилагаю для этого все усилия.
 Кадр из фильма «Сказочный путь» (2016)
Кадр из фильма «Сказочный путь» (2016)— Мне кажется, ваши герои как раз прекрасно могут находиться в одиночестве. Но им тяжело друг с другом. Это именно то, чему им надо учиться.
— Да, пожалуй, я соглашусь.
— После «Орли» у вас была пауза, после которой вы начали делать несколько иные фильмы. Вы изменили способ рассказывать историю, метод работы с актерами, в фильмах есть повторяющиеся кадры — например, с могилами любимых или с приникшими к земле женщинами. Возможно, я себе это придумываю, но, мне кажется, вы пришли к выводу, что есть определенные темы — например, смерть, скорбь, — которые нельзя и не нужно играть. Поэтому была необходимость в поиске другой формы.
— (Пауза.) Нет, вы не придумываете (пауза). Об этом сложно говорить. Мне понадобилось так много времени для «Сказочного пути» по нескольким причинам. Я не могла получить деньги на фильм, так что у меня было достаточно времени, чтобы заняться сценарием. И я все обдумывала, как сделать этот сценарий более веским, чтобы другие наконец поняли, что этот фильм нужно снять немедленно, чтобы им вообще стало понятно, что должно произойти при постановке этого сценария. И так я все больше приближалась к этой новой форме. Но трудности не заканчивались, и тогда я написала новый сценарий. И для этого сценария было важно… то, что вы сейчас сказали, — этот образ женщины, лежащей на земле. Я написала это в сценарии «Я была дома, но…» до того, как сняла «Сказочный путь». А потом так вышло, что «Сказочный путь» был снят все-таки первым. Но я не думала о том, что, раз уже в «Сказочном пути» кто-то лежал на земле, теперь нельзя этот кадр использовать в другом фильме.
— Ваш следующий фильм должен называться «Музыка»…
— Да, я давно хотела сделать что-то про музыку — но воздействие музыки настолько сильное, что я, скорее, пытаюсь убрать музыку из своих фильмов. Потому что баланс сцены полностью смещается, если появляется музыка, изменяется вес других выразительных средств: света, кадрирования. Но музыка меня очень интересует. И теперь я хочу заняться этой темой напрямую.
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202239847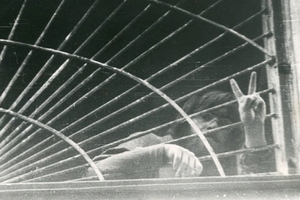 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202256081 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202236057 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 202283903 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202249903 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202236827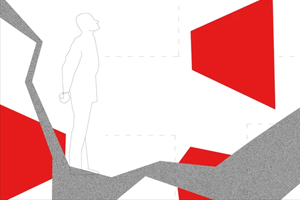 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали