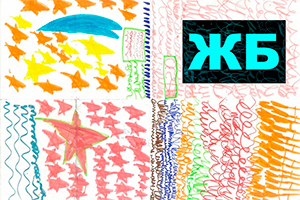В начале прошлого века Вальтер Беньямин посвятил один из своих текстов Эдуарду Фуксу — заметному интеллектуалу, писателю, коллекционеру, исследователю эротического искусства и бескомпромиссному последователю марксизма. Почему фигура Фукса так важна для разговора как об искусстве, так и о самом Беньямине?
В своем эссе «Эдуард Фукс, коллекционер и историк» (1937) Беньямин называет Фукса пионером материалистического подхода к искусству. Фукс был известен своей огромной коллекцией объектов, которые сегодня принято относить к искусству массовому. Как пишет Беньямин, «он был коллекционером, обратившимся к маргинальным областям — таким, как карикатура и порнографические картинки, которые в конечном итоге обозначили разрушение целого набора клише, существующих в традиционной истории искусства». Как вышло, что, несмотря на теоретические конвенции эпохи, карикатуры и открытки смогли быть отнесены к области искусства, и как Фуксу удалось обозначить поворот в сторону исторического материализма?
Важно понимать, что рефлексия условного пространства массовой культуры определяется не только разделением культуры на высокую (элитарную) и низкую (народную). Карикатуры и открытки — это, в первую очередь, результаты работы системы массового воспроизводства и массового распространения. Фукс указывает на коллекционируемые им объекты как на нечто, конституирующее актуальность: их значение неотделимо от значения производства и производственных технологий. Кроме того, объекты его коллекции отсылают к техникам и инструментальному аппарату, участвующим в воспроизводстве этих объектов. Именно эти техники и инструменты объединяют объекты культуры, связывая их друг с другом и обуславливая невозможность рассмотрения каждого из них по отдельности.
Беньямин видит в коллекции Фукса высказывание против фетишизации произведений искусства, которая неизбежно случается, если эти произведения рассматриваются независимо друг от друга, будучи изъятыми из контекста своего существования. Само по себе понимание культуры, господствующее в начале прошлого века, носило фетишистский характер. Его надлежало отринуть, отказаться от него ради коллективной эмансипации, ради высвобождения разума из тисков ложного сознания. Уникальный вклад Фукса-историка можно рассматривать как особый «вид исторической науки, который моделирует объект не из сплетения фактических способов его представленности, но с помощью большого количества нитей, в натяжении которых слышится рычанье прошлого, питающее предрассудки настоящего» [1] (здесь и далее цитируется работа Вальтера Беньямина «Эдуард Фукс, коллекционер и историк»). Фукс предложил помыслить технологии одновременно и как историческое свидетельство, и как одно из исторических условий, то есть рассмотреть в технологиях следы истории. Именно здесь пересекаются исторический материализм и эволюция представлений о культуре и искусстве.
 Купальщица в провокационном купальнике, конец 19-го века / Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart by Eduard Fuchs, 1909
Купальщица в провокационном купальнике, конец 19-го века / Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart by Eduard Fuchs, 1909Коллекционирование не было для Фукса способом наводнить свой дом объектами, чью ценность можно было легко свести к их символической или меновой стоимости. Он был одержим желанием выхватить объекты культурной жизни из мира вместе с тем, что к этому миру постоянно возвращало, — со следами их использования, с отпечатками, оставшимися от исполнения их функций. Только максимальная полнота истории объектов способна была отразить их подверженность трансформации, потенциал к изменению. Здесь важно не путать потенциал объектов ни с их вариативностью, то есть способностью принимать различные формы в результате технической доработки и переработки, ни с их феноменологическим смыслом, связанным с нашим непосредственным опытом восприятия. Потенциал объектов скрывается (и открывается) в их внутренней множественности, которая, в свою очередь, отрицает всякое понятие об аутентичности и оригинальности. Ни один из этих объектов не является более или менее настоящим, более или менее пригодным для того, чтобы стать частью культа или фетиша, — история уравнивает их в своем праве быть ее частью. История объектов гетерогенна, ведь, по словам Беньямина, «исторический континуум, однажды разорванный с помощью диалектики, нигде не приобретает такой безумной раздробленности, как в том пространстве, которое называется культурой». Каждый объект имеет равный потенциал для того, чтобы быть схваченным вместе с теми следами истории, которые он на себе несет.
Помимо отрицания идеи аутентичности, несовместимой с историческим материализмом, коллекция Фукса противостоит понятию авторитарности. Обнаруживая роль производительных сил, участвующих в создании и распространении коллекционируемых им объектов, Фукс указывает на неизвестное количество их безымянных создателей, на анонимный и тяжкий труд их современников. Так Фукс отстаивает не только абсолютное равенство объектов, которые он предлагает относить к искусству, но и равенство всех тех, кто участвовал в их создании. В этом, очевидно, угадывается его личное моральное кредо и прослеживается манифестация его социально-политических взглядов.
В конце позапрошлого и в начале прошлого века искусство, по Беньямину, работало как анестезия, помогая буржуазии избавиться от моральной ответственности за происходящее.
Реалии массового производства и массового распространения незамедлительно порождают вопрос об отношении к технологическому прогрессу. Беньямин пишет, что технологии предполагают как научное, так и историческое развитие. Фукс был для него именно тем человеком, который опередил время, представив новый взгляд на проблему творчества, — способствовал прогрессу и одновременно осуществлял его критическую рефлексию. Надо отметить, что творчество не рассматривалось Фуксом как деятельность, в которую вовлекается отдельно взятый человек, повинуясь неким внутренним импульсам и реализуя индивидуальную творческую способность. Творчество — это результат работы целой производственной системы, созданной человечеством, — системы, в которой задействованы различные силы, пребывающие в постоянном поиске источника власти. Именно так коллекция Фукса привела к не-идеалистическому, то есть к материалистическому пониманию истории. Обратившись к работам сотен тысяч анонимных мастеров, он предпринял попытку освободить человека от буржуазного культа гения, сделав важное движение в сторону, как писал Беньямин, гуманизации человеческих отношений. По Фуксу, искусство представляло собой «идеализированную внешнюю оболочку имеющейся социальной ситуации».
Более того, будучи своего рода камуфляжем, искусство участвовало в этическом оправдании господствующего социального и политического порядка с осуществляющими этот порядок институтами. Ни для кого не секрет, что современное искусство по-прежнему сохраняет эти черты, несмотря на развитую критическую составляющую и постоянную саморефлексию. Однако в конце позапрошлого и в начале прошлого века искусство, по Беньямину, работало как анестезия, помогая буржуазии избавиться от моральной ответственности за происходящее, или, другими словами, искусство лакировало реальность, замораживая возможные чувства по поводу творящейся несправедливости. Фукс хотел представить социально-политическую ситуацию без ее сверкающей оболочки, сорвать с нее ее роскошные одежды с тем, чтобы возможность (и историческая необходимость) изменений предстала во всей своей очевидности.
 Процесс над ведьмой, резьба по дереву, 16-й век / Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart by Eduard Fuchs, 1909
Процесс над ведьмой, резьба по дереву, 16-й век / Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart by Eduard Fuchs, 1909Беньямин отмечает, что Фукс был человеком открытого и чувственного таланта. Каким образом это оценочное и в некотором роде личное высказывание согласуется с материалистическим подходом к истории культуры? Как оно отражает политическую позицию Фукса и значение его коллекции для демократизации искусства?
Страсть Фукса к коллекционированию, порожденная его ненасытной жаждой материального, далека от любования, эстетического возбуждения и прочих форм чувственного схватывания предметов искусства, с которыми принято связывать их эстетическую ценность. Интерес Фукса к объектам творческой деятельности обнаруживают иной тип чувственности, раз и навсегда порывающий с возвышенным. Это чувственность игры. Именно игровой статус определяет субверсивный характер его коллекции. В то же время Фукс предпринял попытку помыслить искусство с точки зрения его объективной ценности, вернув или как бы заново пришив к произведениям их экзистенциальное путешествие. Здесь можно увидеть проблемный статус объекта искусства, вышедшего за рамки классической оппозиции между формой и содержанием, но попавшего в пространство между объективным и субъективным. Здесь же обнаруживаются сложные отношения Фукса с психоанализом, который он рассматривал исключительно в контексте его диалектической связи с историческим материализмом.
Коллекционеру не удается ни завладеть объектом, ни полностью охватить его значение, он способен лишь сохранить и актуализировать формы его репрезентации.
Фукс не был алчным обладателем, стремящимся украсить свою буржуазную жизнь с тем, чтобы единолично насладиться приятными ему объектами в порядке поддержания joie de vivre. Сложно было бы сравнить его и с нумизматом, поглощенным охотой за редкими экземплярами. Он скорее напоминает куратора, осуществляющего концептуальную селекцию объектов повседневности, принимая, понимая и указывая на их фактичность, материальность и историческое значение. Тот факт, что Фукс все-таки располагал частной коллекцией, можно списать на его индивидуализм, углядеть в нем одержимого жаждой единоличного любования вуайериста. Однако Беньямин находит этому оправдание: личная коллекция — единственная возможность составить оппозицию тогдашним музеям, в коих преобладала идея накопления ценных экспонатов. В противоположность им Фукс хотел обозначить ценность объектов своего интереса, не апроприировать, не сконструировать единое означаемое, а максимально разомкнуть их значение. Он увлеченно «исследует искусство, в котором и произведения, и производительные силы, и массы объединяются вместе в образах человека истории». Именно поэтому Беньямин называет его универсальным историком, первым, обнаружившим политическую энергию, политическую силу искусства. Однако интерес Фукса к политике навряд ли может охарактеризовать его «чувственный талант»: ключевым здесь является слово «сила», точнее, «энергия».
 Сцена купания, средние века / Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart by Eduard Fuchs, 1909
Сцена купания, средние века / Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart by Eduard Fuchs, 1909Разделял ли Фукс достаточно вульгарную психоаналитическую идею о том, что стремление создавать основано на эротическом импульсе, в свою очередь, связанном с биологически детерминированной чувственностью? Фукс хорошо понимал, что ненасытность, или постоянное и острое ощущение нехватки, — не столько особенность субъекта, обладающего разумом, сколько свойство человека во всей полноте антропологического подхода к его пониманию. Однако это свойство отличается от идеи сексуального влечения, рационализированного в концепции желания, всегда направленного на свой смутный объект. «Голод и любовь, природой соединенные воедино, являются самыми могущественными диктаторами и формами мировой истории… Только когда они оказываются вместе, целое становится достижимым» [2]. Так тема эротизации и эротизма, возникшая благодаря психоанализу, рассматривалась Фуксом сквозь призму гегелевской диалектики истории.
Фукс не принимает смутный характер желаемого объекта, потому что он означает возвращение к фетишизации объектов искусства. Их квазисакральный статус упрочивается с помощью репрессивной нормы и организации распределения власти, ограничивающей и авторитарной. В то же время Беньямин замечает, что «Фукс по возможности избегал теории подавления и теории комплексов, которые могли повлиять на его моралистическое понимание социальных и сексуальных отношений». Фукс выступал одновременно против голоса разума и совести, провозглашенных добродетелей Просвещения, и против типичного психоаналитического подхода, предполагающего, что распределение власти полностью зависит от подавляемого желания получать чистое сексуальное удовольствие. В противовес всему этому он сделал ставку на игру и на важность игрового элемента для истории культуры. Он поставил творческую энергию, основанную на осознанной интенции чувств, выше коллективного трепета перед чьим-либо художественным талантом и одновременно рассматривал ее вне пространства фантазмов, за пределами производящего образы бессознательного.
Личная коллекция — единственная возможность составить оппозицию тогдашним музеям, в коих преобладала идея накопления ценных экспонатов.
Беньямин полагал, что страсть Фукса к коллекционированию граничила с манией. Эта маниакальная страсть и есть не что иное, как игровая имитация товарного фетишизма с целью его разоблачения. «С самого начала он смешал правдивость с игрой», — пишет Беньямин. Завороженность Фукса гротеском и эротической карикатурой, его способность увидеть и оценить рассыпающееся и внезапное в объекте искусства, его сосредоточенность на креативности в противоположность гениальности и вера в чувственные импульсы позволяют рассматривать его коллекцию как серию перформативных актов, актов повторения. Разве коллекция рисунков и карикатур не напоминает нам о конвейере, о линии поточной сборки? Разве в этом игровом повторении не угадывается отсылка к процессу массового производства? Фукс осуществил миметическое движение нового типа, тем самым открыв для нас и миметическое свойство самих собираемых им объектов: они имитируют не природные явления и даже не коллективные нравы; собранные вместе, они имитируют технологический и исторический процесс, частью которого являются они сами.
Понятие повторения в смысле миметической способности было принципиально важно и для самого Беньямина. В то же время его оммаж Фуксу — это не только жест уважения или восхищения, в нем угадывается нечто более интимное. Это объединяющая двух интеллектуалов тайная обсессия по отношению к путешествию артефактов, еще не ставших таковыми, зачарованность движением культуры. Общеизвестно, что Беньямин коллекционировал традиционные игрушки и поделки, желая удержать прошлое и настоящее этих объектов, освободить их от включенности в цикл профанного использования и одновременно уберечь их внешнесть, сохранить в них присутствие целого мира. Погружаясь в богатство вариаций исторического присутствия собираемых предметов, он пытался очертить бесчисленное множество лакун, мест отсутствия — рассыпанных повсюду форм объектов, отчужденных от своих изначальных функций. Коллекционирование означало для него спасение вещей от их дальнейшего использования, закрепление их статичного состояния с целью сохранения следов, оставленных на них миром и человеком.
 Старик, подглядывающий в замочную скважину / Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart by Eduard Fuchs, 1909
Старик, подглядывающий в замочную скважину / Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart by Eduard Fuchs, 1909Концепция отсутствия и ее связь с повторяемостью заслуживает отдельного пояснения. Беньямин понимает отсутствие как нехватку смысла, нехватку полного значения объекта, которое всегда находится не здесь, но где-то еще — в пространстве и во времени, в его функциях, в производительных силах и техниках его распространения, в отношениях обмена и в процессе создания. Присутствие объекта неопределенно, неоднозначно, его связь с миром постоянно прерывается. В свою очередь, значение объекта всегда остается неполным, из-за чего он сам проявляется как отсутствие. Терри Иглтон пишет, что «именно по этой причине время товара сразу же оказывается пустым и гомогенным: его гомогенность представляет собой именно бесконечную самотождественность в чистом повторении, которое в силу отсутствия возможности самомодификации не имеет никакой иной формы, кроме зеркального отражения» [3]. Идея объекта, принимающего форму зеркального отражения, вновь заставляет обратиться к вопросу миметического повторения, игровой имитации, осуществленной Фуксом посредством сбора своей коллекции. Справедливо было бы утверждать, что присущее Фуксу и Беньямину ощущение неполноты значения объекта только усилило их страсть к коллекционированию, обострило ее маниакальный характер, превратилось в постоянную потребность в собирательстве объектов.
Идея объекта как отсутствия появляется и в важном для Беньямина понятии аллегории. Он пишет следующее: «Аллегорист сам по себе есть полная противоположность коллекционеру. Он оставил попытку объяснить вещи с помощью исследования их свойств и связей между ними. Он вынимает вещи из их контекста и с самого начала полагается на их глубину с тем, чтобы прояснить их значение» [4]. В то же время, продолжая свое рассуждение, он говорит, что «в каждом коллекционере прячется аллегорист, а в каждом аллегористе — коллекционер», так как всякая коллекция является неполной — равно как и всякая аллегория. Любая коллекция есть аллегория сама по себе.
 Парикмахер в женском пансионе, 1786 / Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart by Eduard Fuchs, 1909
Парикмахер в женском пансионе, 1786 / Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart by Eduard Fuchs, 1909Это позволяет обнаружить напряжение между коллекционированием и обладанием — то фундаментальное противоречие между ними, которое не может быть снято. Коллекционеру не удается ни завладеть объектом, ни полностью охватить его значение, он способен лишь сохранить и актуализировать формы его репрезентации. Аллегория, данная нам как фигуративный образ и как отсутствие частности, символизирует невозможность обладания. Единственное, что остается, — выхватить объект из контекста его привычного использования и из бесконечного цикла его технологического воспроизводства. Но даже если коллекционер знает об отсутствии у себя способности завладеть объектом и схватить его значение, это знание нисколько не смягчает его напряжения, которое в итоге может обернуться меланхолией. Меланхолия, язык агонии, маргинальные типажи и различные способы их изображения занимали Фукса на протяжении всей его жизни. Беньямин пишет, что Фукс (как, очевидно, и сам Беньямин) принадлежал к касте золотоискателей, алхимиков и некромантов — к людям, в чьих головах пульсирует навязчивая идея и чей пытливый ум и увлеченность повергают их в агонию переживания вечной неполноты. Впрочем, представление о полноте слишком верно наследует немецкому идеализму: в том, чтобы отказаться от него, не испугавшись неминуемой реакционной ломки, и состоял интеллектуальный долг исторического материалиста.
[1] Benjamin, Walter. «Eduard Fuchs, Collector and Historian», in The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media, ed. by Michael W. Jennings, Brigid Doherty and Thomas Y. Levin (Cambridge, MA, and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2008).
[2] Bach, Ulrich. «“It would be delicious to write books for a new society, but not for the newly rich”: Eduard Fuchs between Elite and Mass Culture», in Publishing Culture and the Reading Nation: German Book History in the Long Nineteenth Century (Studies in German Literature, Linguistics and Culture), Rochester, NY: Camden House, 2003, p. 305.
[3] Eagleton, Terry. Walter Benjamin or Towards a Revolutionary Criticism (London: Verso, 2009 [1981]), p. 29.
[4] Benjamin, Walter. «The Collector», in Arcades Project (Cambridge, MA, and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2002), p. 211.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Современная музыка
Современная музыка