 Colta Specials
Colta SpecialsБез будущего
 Антон Беликов. Погляди на небо. 2020. Москва© «После иконы»
Антон Беликов. Погляди на небо. 2020. Москва© «После иконы»24 декабря в Подземном музее Зарядья открылась Рождественская выставка проекта «После иконы». В 2022 году проекту исполняется пять лет. География выставок обширна — от Великого Новгорода и Свияжска до храма Христа Спасителя. Реакции на попытку не копировать, но заново осмыслять полярны — от восторгов до обвинений в кощунстве. Искусствовед Анна Борисова взяла интервью у основателя и куратора проекта Антона Беликова.
— Антон, хотелось бы начать интервью с вопроса, касающегося непосредственно вас. Учеба на философском факультете МГУ, кандидатская, художественные факультеты Свято-Тихоновского университета и Суриковского института — как так получилось? В какой момент вы поняли, что хотите заниматься искусством, причем не только в теории, но и на практике?
— Нет, это все не одно за другим. После школы поступил на философский, откуда меня выгнали с четвертого курса за беспредельную наглость по отношению к педагогам. На самом деле поделом, правильно сделали. После этого я год проторчал в университетском гастрономе, там я и получил бóльшую часть своего интеллектуального багажа. Покупал себе каждый день какую-нибудь книжку из серии «Азбука классика», банку джин-тоника и весь день сидел читал. До сих пор, когда открываю книгу из этой серии, появляется такой вкус во рту, как будто я елку жевал. Потом восстановился, окончил университет и понял, что мне некуда деваться. Кому нужны были философы в 2000–2001 годах? Какое-то время я работал в политпиаре (на последних курсах университета). Это было весело, и платили довольно много, но потом пришел Путин, и весь политпиар в стране закончился буквально за полгода. Я заскучал, сел однажды, взял лист бумаги и написал сам себе, чем я хотел бы заниматься и сколько денег хотел бы за это получать (понимая, что толком ничего не умею делать). Выходило, что я хочу много тусоваться, везде ездить, много видеть и получать за это не меньше тысячи долларов в месяц. В итоге пошел работать в одежный бизнес, тем более что это было связано со спортом, которым я тогда активно занимался. В этой сфере проработал 11 лет, потом бросил. Причина была в том, что я однажды осознал, что дальнейшее мое карьерное продвижение подразумевало вполне обыденное, повседневное нарушение какой-нибудь из десяти заповедей. Все это стало мне так отвратительно, что я все бросил и уехал с семьей на Синай чинить расшатанные нервы. Примерно за год я пришел в себя, понял, чем хочу заниматься. Написал кандидатскую диссертацию по теории иконы, вернулся в Россию и защитил ее потом в Институте философии Академии наук.
 Куратор проекта «После иконы» Антон Беликов на открытии Рождественской выставки в Подземном музее Зарядья© Кирилл Дзюба
Куратор проекта «После иконы» Антон Беликов на открытии Рождественской выставки в Подземном музее Зарядья© Кирилл Дзюба— То есть к теме иконописи вы пришли именно тогда, когда были на Синае?
— В целом да. Хотя я и до этого, видимо, шел в этом направлении. Я чувствовал, что изобразительный язык сакрального искусства — это как раз то, с чем можно подойти к пониманию чего-то большого и важного в мироздании, что я как будто улавливал, к чему хотел прислушиваться, к моему внутреннему опыту сложных переживаний, которые я бы сейчас мог, наверное, назвать религиозными. Я старался подойти к вопросу серьезно. Вышло так, что я практически убежал из Москвы, будучи не в силах выносить уже все, что видел. Мне все казалось уродливым и злым: люди, городская архитектура, отношения, бизнес, спорт, искусство… все… Я бежал от всего этого, как убегают из тюрьмы: от охранников, решеток, распорядка, от других заключенных. И вот я оказался в пустыне. Невероятное по красоте место. Потрясающе, трагически красивое. Скалы, песок, море… И вот там, среди этой красоты, я вдруг понял, что мне не стало лучше, понял, что всю грязь, злобу и отчаяние я привез с собой. Пустыня — вообще особое место, там времени нет. Своего рода зеркало. Безжалостное зеркало, которое со всей ясностью предъявляет тебе тебя. В Москве можно полдня злиться на урода, который тебе на ногу в метро наступил, и искренне верить, что это он виноват, потому что он — урод. А приезжаешь в пустыню, и пустыня тебе говорит: «Вот, смотри, как красиво, а тебе все равно плохо, ты все равно злой, а того урода из метро нет, потому, что ты сам — урод». Всякое было. Стал терять ощущение цвета и эмоции, силы натурально пропали, желаний никаких нет, как будто дементор присосался. Однажды я зашел в море (мы жили совсем рядом) и поплыл без особой цели в сторону Саудовской Аравии. Плыву, кругом рыбки, кораллы, все как в аквариуме, а потом раз — риф закончился, вода стала ледяная, волна злая, и течение тащит. Я голову поднимаю и вижу, что до берега далеко, так, что и людей не видать, опускаю голову в воду и вижу, что рифа никакого нет, глубина синяя, лучи солнца в воде ломаются и в глубине огромные черные тени плывут. Что-то там со мною случилось, жить захотелось невероятно. Выгреб, как смог, на берег, а там все разноцветное. И рыбой жареной пахнет. И дети бедуинские орут. И камни на берегу горячие. И земля вся как разноцветный дивный шар круглится. Да. Есть такая книжка «Синайский патерик» — это истории из жизни первых монахов, которые на Синае появились около VII века. Похожие вещи они переживали в этих местах. Говорю же: в пустыне времени нет. 1300 лет прошло, а мучает человека все одно и то же. Да. Короче, рисовать тогда я по сути дела не умел, если только что-то на компьютере иногда изображал. Собственно, пока писал диссер, стал обращать внимание на то, что тексты искусствоведов, посвященные религиозному искусству, часто совершенно беспомощны и причина этого в том, что рассуждающий сам не брал никогда кисти в руки.
 Кэти Меладзе. Логос. 2019. Рождественская выставка проекта «После иконы» в Зарядье, 2021–2022© Анна Борисова
Кэти Меладзе. Логос. 2019. Рождественская выставка проекта «После иконы» в Зарядье, 2021–2022© Анна Борисова— Что вы имеете в виду?
— Ну, например, у какого-то искусствоведа я вычитал однажды рассуждение о том, что точка схождения обратной перспективы находится в сердце молящегося. Какое сердце? Перспектива — это же про геометрию. Сразу же понятно, что это пишет экзальтированный человек, который ничего не понимает в иконе, в перспективе да и вообще в изобразительном искусстве. После такого дальше читать рассуждения этого человека просто неинтересно. А вообще, конечно, смешного у искусствоведов много, в том числе и у зацитированного всеми Павла Флоренского. Например, он всерьез пытается связать послойное построение карнации в иконе с какими-то теологическими рассуждениями. Может быть, это и интересная мысль, интересная параллель, но в действительности — натягивание совы на глобус. Я тогда понял очень важную для меня вещь — вся теория говорит: искусство всегда стояло на службе теологии, но как только сам начинаешь разбираться, то понимаешь — нет, не так, а наоборот: художник интуитивно улавливает какой-то нерв времени, который теоретики еще не поняли, а художник уже как-то почувствовал, ощутил. У Аверинцева есть рассуждение о пальмирских погребальных портретах, где он это тоже описывает. Короче говоря — образ во времени опережает мысль. Это для меня была важная находка.
Когда я это понял, то принялся рисовать и пытаться что-то осознавать, советоваться. В какой-то момент одна знакомая, которая тогда преподавала на реставрации в РГГУ, посмотрела с грустью на какой-то мой очередной корявый рисунок и сказала, что учиться рисовать все же следует настоящим образом. Я внял совету и пошел учиться в Свято-Тихоновский университет.
Николай Рындин. Рождество. 2021. Рождественская выставка проекта «После иконы» в Зарядье, 2021–2022
© Николай Рындин
— И как сложилась ваша учеба там? Это ведь крайне консервативное место для человека, склонного к исследовательской деятельности…
— Смысл того, что в Свято-Тихоновском называют художественным образованием, — в последовательном обрезании крыльев молодому художнику. Если хочешь истребить себя как художника — поступай туда на иконопись или на монументалку. Жестокость и лицемерие, маскирующиеся под благочестие. Система, где одни унижают других, почему-то называя это проповедью смирения.
— Что вы имеете в виду под унижением?
— Там день за днем студентам внушают, что они ничтожества и никогда не станут художниками. Не смей мыслить свободно, когда перед тобой стоит преподаватель, который прямо заявляет: «Аз есмь путь, и истина, и жизнь». Даже мне, на тот момент уже взрослому человеку, было не по себе от того, какое там отношение у преподавателей к ученикам, а что уж говорить о тихострунных юных девочках и мальчиках из христианских семей. И вот так, постепенно, пришедшие учиться окрыленные студенты, которые что-то видят, а некоторые, возможно, даже имеют свой собственный опыт ощущения божественного, подвергаются унижению каждый божий день. За пять лет человека из окрыленного можно превратить в ничтожного, что часто и происходит. Я видел, как это бывает. Надеюсь, что на том свете все эти люди ответят за то, что они творят. «Не судите, да не судимы будете» неактуально там. Судят каждый день. Судят и карают слабых да унижаются перед вышестоящими. Я думаю, у каждой христианской конфессии есть какой-то свой главный грех. У католиков — гордыня, у протестантов — фарисейство, а у нас, православных, — бревноглазие. В чужом глазу видим соринку, а в собственном бревна не наблюдаем. Это повсюду проявляется.
 Софья Игошина. Знак. 2019. Рождественская выставка проекта «После иконы» в Зарядье, 2021–2022© Анна Борисова
Софья Игошина. Знак. 2019. Рождественская выставка проекта «После иконы» в Зарядье, 2021–2022© Анна Борисова— Вас исключили из Свято-Тихоновского?
— Нет, сам ушел. Я провел там два года, наблюдая все это, и понял, что дальше смотреть не хочу. Где-то за полгода до ухода я сделал несколько рисунков и холстиков по живописи и решил пробовать перевестись в Суриковский институт. Я показал свои рисунки руководителю монументальной мастерской Евгению Николаевичу Максимову (очень уважаю его), и он спросил, на какой курс я хочу перевестись. Я говорю: «На второй». Меня перевели. Год я отучился в мастерской Николая Анатольевича Дубовика (кстати, самый полезный год моего образования в Суриковском институте). Затем я оказался в монументальной мастерской у всех наших корифеев — Максимова, Корноухова, Гавриляченко, покойного Лубенникова.
Пока учился, искал для себя какие-то варианты выставить свои работы. Тогда в России был единственный серьезный выставочный проект, занимавшийся продвижением современного христианского дискурса, который делали Сергей Чапнин, Ирина Языкова и Гор Чахал.
 Александр Голышев. Не рыдай Мене, Мати. 2017. Выставка в храме Параскевы Пятницы в Великом Новгороде© «После иконы»
Александр Голышев. Не рыдай Мене, Мати. 2017. Выставка в храме Параскевы Пятницы в Великом Новгороде© «После иконы»— Вы имеете в виду «Дары»?
— Да! Все остальные выставки христианского искусства были в формате ярмарки: тут мед, там шубы, здесь иконы. Короче, неинтересно. А у Чапнина с Языковой это все было из разряда «мы не такие, как вы». Короче, на какой-то open call я прислал им фотографии своих работ, чтобы попасть на выставку. Попал. Вся выставка представляла собой один затяжной танец художников вокруг Андрея Анисимова, председателя правления Гильдии храмоздателей (Гильдия храмоздателей — объединение создателей православных храмов и произведений сакрального искусства. — Ред.), с преданным заглядыванием в глаза и этими танцами на задних лапах. Я не знаю, как Анисимов на это смотрит, архитектор он действительно крутой, но мне это шоу показалось комичным. Короче, я понял, что участвовать в этом не хочу, потому что меня интересует в искусстве совсем другое. Примерно тогда познакомился с текстами Теодора Зинона и Александра Солдатова. Интересный человек — Солдатов. В Лавре преподает (Московская духовная академия в Троице-Сергиевой лавре. — Ред.). Крутой мыслитель, крутой художник и просто хороший человек. Сейчас чуть ли не за свой счет расписывает храм бесланских мучеников.
 Антон Беликов. Благовещение. 2017. Выставка в храме Параскевы Пятницы в Великом Новгороде© «После иконы»
Антон Беликов. Благовещение. 2017. Выставка в храме Параскевы Пятницы в Великом Новгороде© «После иконы»— Да, это очень мощно выглядит. Я подписана на Солдатова в Фейсбуке и слежу за тем, что он делает. Мне кажется, что его работы очень сильно выделяются среди всего того, что мы наблюдаем в церквях сейчас.
— Да, он очень глубокий, сильный мастер и человек. Мы с ним в какой-то момент не сошлись по некоторым вопросам, но то, что я продолжаю очень уважать его, — факт. Уверен, что иметь такого педагога — круто, а друга — еще круче.
— Так вам довелось у него учиться?
— Нет, я с ним некоторое время общался и многое из этого общения почерпнул.
— В какой момент появилась идея проекта «После иконы»?
— А вот после той самой выставки, устроенной Языковой и Чапниным, я понял, что меня все это не убеждает. Я ходил и думал: «Нарисовано хорошо, и все вроде бы по науке сделано, денег вложено много, труда… но все равно что-то не то».
 Святой Георгий (мозаика) в Херсонесе. 2018© «После иконы»
Святой Георгий (мозаика) в Херсонесе. 2018© «После иконы»— Не убеждало то, как все это преподносилось?
— Нет, преподносилось нормально, и в экспозиционном смысле тоже вроде ничего, но что-то важное как будто упущено… Помню, что после той выставки я в печали вернулся домой и начал думать, в чем же дело. Я стал брать фотографии современных работ современных иконописцев и переводить их в ч/б в фотошопе. И аналогичную операцию произвел с работами, созданными древними иконописцами. И вот тут кое-что понял. Я понял, что многие работы современных иконописцев просто недотянуты ни по цвету, ни по тону. В основном, конечно, по тону. А иногда не просто недотянуты, но и вообще не решены в тоне. А что это значит? Стоит переместить такую икону из софитного освещения в светотеневую среду обыкновенного храма, где свет только от свечей и из окон, и современная икона там просто пропадет. Фактически в этот момент и начался проект «После иконы» (в самом начале название было другим — «Икона после иконы»). В 2017 году мне и моей жене Маше удалось договориться с новгородским музеем и организовать выставку в храме Параскевы Пятницы на Торгу. Это XII век, домонгольский храм. В нем просто нет электрического света (по крайней мере, тогда не было), и именно туда я вывез современные иконы. Для меня это был эксперимент. Я пытался понять, как себя поведет в реальной светотеневой среде классического древнерусского храма современная иконопись. Это была первая выставка, но я тогда еще не оценивал это как некий проект. Финансирования у нас никакого не было. У меня просто были какие-то деньги, которые я захотел потратить таким образом, ради эксперимента, и сделать для себя какие-то выводы. А дальше все заверте...
 Илья Гуреев. Ангел Великого Совета. 2019. Выставка в Анненкирхе в Петербурге© «После иконы»
Илья Гуреев. Ангел Великого Совета. 2019. Выставка в Анненкирхе в Петербурге© «После иконы»— Вы выбирали какие-то особые работы? Был open call?
— Нет, я просто обзвонил своих друзей, знакомых, всех, кому это могло быть интересно, и предложил поучаствовать. Художественную часть мы задумывали и делали вместе с художницей Женей Колесниковой, она недавно умерла от рака. Я до сих пор ей благодарен за все. В общем, ту самую первую выставку мы так и сделали втроем: Женя, моя жена Маша и я. Собрали работы, погрузили в арендованный прицеп, привезли и сами смонтировали выставку. А дальше уже одно цеплялось за другое. В какой-то момент я преисполнился воодушевления и написал от своего собственного лица письмо в Министерство культуры, в котором просто перечислил список площадок, где хотелось представить проект. Начинался список с Третьяковской галереи и Русского музея, а Министерство культуры, недолго думая, с каким-то своим циркуляром разослало мое письмо по всем перечисленным мной музеям с предложением принять у себя выставку. Естественно, Третьяковская галерея и Русский музей никак не отреагировали, но некоторые из площадок согласились. И вот уже пять лет проект существует и ездит по стране.
 Олеся Выборнова. Аз есмь свет миру. 2019. Выставка в Анненкирхе в Петербурге© «После иконы»
Олеся Выборнова. Аз есмь свет миру. 2019. Выставка в Анненкирхе в Петербурге© «После иконы»— Каким образом изменилось название — сначала «Икона после иконы», а затем «После иконы»?
— Название «Икона после иконы» — это просто логика. Была икона та самая, древняя, где все решено, дотянуто по цвету, дотянуто по тону, сделано правильно, а вот теперь есть современная икона, которая возникла после той (после Рублева, Феофана и т.д.). Но по мере того, что происходило, я понял, что концепцию следует менять. Был переломный момент — выставка в храме Христа Спасителя в январе 2019 года. Тогда стало ясно, что работать с иконой дальше просто невозможно.
— Кстати, даже мне запомнился тот момент. Под различными постами о выставке (в том числе и под моим) возникло множество гневных комментариев от людей, которые позиционировали себя как иконописцы или просто верующие. Причем, что удивительно, в основном страницы этих людей выглядели как анонимные или полуанонимные. Помню даже реакцию одного из моих студентов (не юный, весьма взрослый был человек) на пост с выставки, который я сделала в Инстаграме. Он говорил, что это недопустимо, кощунственно и он вынужден будет пожаловаться на меня начальству. Хотя, собственно, кто я в этой ситуации? Искусствовед и арт-критик, которая написала свое положительное мнение о выставке. Поэтому даже страшно представить, какой негатив вылился на вас. Как вы думаете, почему так велик уровень ядовитости, раздражения и агрессии у этих, казалось бы, верующих людей? Я никогда не встречала ничего подобного в среде российского совриска.
— Христос был распят верующими людьми по обвинению в святотатстве. Что еще добавить? Я тогда насчитал около 500 постов в Фейсбуке относительно того, какой я негодяй, сволочь и еретик. Комментаторы считали, что защищают каноны, ничего, по сути, не зная о них.
 Антон Беликов. Поцелуй Иуды. 2016. Зайцево (Донецкая Народная Республика)© Антон Беликов
Антон Беликов. Поцелуй Иуды. 2016. Зайцево (Донецкая Народная Республика)© Антон Беликов— Но ведь весной того же года была конференция в Свято-Тихоновском университете, где устроили гневный разбор работ участников проекта. Я тогда с удивлением отметила, что из критериев там было только что-то вроде «благодатно» и «безблагодатно», хотя, казалось бы, это университет и уровень анализа произведений должен быть на высоте… То есть я, например, так и не поняла, что конкретно вызвало такое негодование.
— Я там пытался что-то говорить, но у меня просто вырвали микрофон из рук. Комично выглядело, что основным ниспровергателем там был отец Александр Салтыков. Тот самый, который написал хвалебный отзыв на мою диссертацию несколькими годами раньше. Другим ниспровергателем был замечательный отец Николай Чернышев, руководитель одной из иконописных мастерских Свято-Тихоновского университета, которого я выставлял как художника в рамках проекта «После иконы». Я выставлял его иконы на нескольких выставках, а он потребовал осудить меня. Зачем тогда давал свои работы на наши выставки? Необъяснимо.
Думаю, здесь дело в той самой логике: «Все побежали, и я побежал, все обличают, и я тоже должен обличать…». Некоторое время я предлагал оппонентам дискуссию один на один по правилам средневекового диспута. Хотите? Я готов, а вы можете? Выставьте любого полемиста с вашей стороны, и мы по пунктам все обсудим — и про теологию, и про искусство. Щипкову потом предлагал, он вроде интеллектуал. Но они не хотят или не могут. А вот прыгнуть толпой, вырвать микрофон, не дать говорить… Я пришел на ту конференцию не один, а вместе со многими художниками, которые участвовали в проекте. И они тоже пытались что-то говорить, аргументировать, когда их работы несправедливо подвергались грубой и неоправданной критике, но им просто не давали что-либо сказать. Мы пришли обсудить со своими братьями по вере нечто важное для всех нас, а ушли из этих золотых залов с осознанием того, что здесь разговаривать не с кем и не о чем, потому что мы видим в них людей и рассчитываем на симметричное отношение, в то время как наши визави уже осудили и вынесли свой приговор и мы со своей протянутой для дружбы рукой выглядим наивными дураками. Кстати, в Церкви вообще многие не понимают, что сегодня право быть иконописцем или, например, библеистом, так же как и право рассуждать о Боге, не выдается священниками или институциями. Для всего этого уже давно не требуется ничьей лицензии: кто хочет — тот и рассуждает. Хорошо это или плохо — другой разговор, но реальность сегодняшнего дня именно такая.
 Антон Беликов. Богородица. 2020. Деревня Волосково (Тверская область)© «После иконы»
Антон Беликов. Богородица. 2020. Деревня Волосково (Тверская область)© «После иконы»— Можно ли сказать, что тот год, когда были выставка в храме Христа Спасителя и конференция в Свято-Тихоновском, стал переломным в том, что касается ваших отношений с Церковью как институцией?
— У меня есть вопросы к Церкви как к институции. Но если в общем, то по сути все сводится к штурму неба. Ведь именно ради этого существует Церковь. В самом деле, это же не богадельня, не детский дом, не институт благородных девиц, не образовательная организация, не хозяйствующий субъект с капитализацией как у РЖД. И если Церковь перестает штурмовать небо, то зачем вообще вот это все остальное?
— А что в вашем понимании «штурм неба»? Мне кажется, что слово «штурм» подразумевает некий агрессивный захват.
— Само понятие «штурм» подразумевает, что человек предпринимает усилие, что он устремлен к цели, к преодолению. Человек — существо вертикальное, хоть и обреченное двигаться по горизонтали. В материальном мире мы можем смотреть вверх, имея возможность двигаться только по горизонтали. Такова биология человека. Но самим фактом своей вертикальности мы подобны струне, натянутой между преисподней и небом. Пасть человеку легко, долго ли умеючи? А вот чтобы оказаться наверху, нужно предпринять усилия, а это штурм чего-то внутри себя или преодоление того, что снаружи, преодоление собственной гнили, злобы, жестокости… всего темного, что есть в каждом из нас. Это активное усилие, которое человек предпринимает. Нельзя просто так взять и благораствориться в золоте Царствия Небесного. В Молении о чаше Христос преодолевает тело и страхи тела, будучи искушаем Сатаной в пустыне, он преодолевает духовные искушения. Вот это и есть штурм.
 Александр Цыпков, Антон Беликов. Архангелы. 2020. Село Горицы (Тверская область)© «После иконы»
Александр Цыпков, Антон Беликов. Архангелы. 2020. Село Горицы (Тверская область)© «После иконы»— А чем, по-вашему, занимается Церковь вместо штурма небес?
— Она может заниматься чем угодно, это ее право, вопрос только в приоритетах. Во главе угла должен стоять штурм небес, а если это не так, тогда вот это остальное начинает вызывать вопросы. Сам по себе монастырь как хозяйствующий субъект — это нормально, но если в этом монастыре люди уже не спасаются, а только хозяйствуют, возникает вопрос: «Зачем вы здесь собрались и надели на себя черное?»
Вообще Церковь сейчас стоит перед очень серьезной проблемой. В современной реальности большинство верующих — не прихожане, а, условно говоря, «захожане» — изредка заходят в случайный храм, не принадлежат ни к одной общине. В XXI веке больше нет общины. А ведь христианство всегда было общинной религией, как ему быть в нынешних условиях? Я вижу, как современные христиане боятся будущего, отвергают его. История XX века сложилась так, что идея будущего перестала быть связана с христианством. Но должны ли мы в XXI веке жить так, как сложилось в XX?
 Александр Цыпков, Антон Беликов. Спаситель. 2020. Москва© «После иконы»
Александр Цыпков, Антон Беликов. Спаситель. 2020. Москва© «После иконы»— В манифесте к одной из выставок вы писали, что христианство смирилось со своей неактуальностью.
— Писал. Вообще это согласие с неактуальностью, отторжение будущего — наверное, самые опасные симптомы, маркирующие увядание. Но все ведь может быть иначе. Для меня идея будущего — органическая часть вероучения. Мне очень близка идея вечной новизны и актуальности заповедей. Я очень остро ощущаю Рождество как вхождение вечно юного Бога в вечно юный мир. Мне неинтересна, скучна ветхость, мне интересна вечность, потому что вечное — это вечно юное, а не вечно ветхое.
— Некоторые участники проекта «После иконы» (вы, как я понимаю, тоже) занимаются религиозным стрит-артом, что у многих вызывает массу вопросов из-за беззащитности и уязвимости образов, находящихся на улице. Помню, я однажды выложила в Фейсбуке фотографию работы Александра Цыпкова, и один из комментаторов написал, что создавать образы святых на улице — это все равно что кидать розы свиньям. Судя по лайкам, многие с ним согласились. Меня такая формулировка удивила, потому что в ней звучит желание разделить, расколоть, указать, что вот по одну сторону находятся богоспасаемые, а по другую — некие обобщенные чужаки, свиньи. Помимо того что это какой-то антихристианский взгляд, возникает вопрос — а как же проповедь? В данном случае религиозный стрит-арт — это визуальная проповедь, и она, на мой взгляд, очень важна и действенна.
— Если бы логике разделения следовал сам Христос, то, наверное, он так и остался бы в пустыне в общине ессеев вместе с Иоанном Крестителем. Ессеи брезговали миром, уходили из него, отвергали грешных людей. И Христос был среди них, но ушел к людям. Мы его знаем как того, кто из пустыни вышел и принялся проповедовать. Кому? Рыбакам, проституткам, горожанам, мытарям, то есть людям, в общем, никакого уважения не заслуживающим, людям греховным, как считали те, кто жил в пустыне. Я убежден, что любого рода элитизм, когда люди мнят, что они находятся на корабле спасения, и поплевывают вниз на тех, кто в пучине греха барахтается, противоречит учению Христа. Если говорить конкретно про религиозный стрит-арт, я ни у кого разрешения спрашивать не стану — ни у правоохранительных органов, ни у властей, ни у комментаторов. У меня никаких долгов перед ними нет.
Я поехал в Донбасс в 2016 году, в прифронтовое Зайцево, и сделал там страстной цикл в разбитой артиллерией школе. Правильное ли это было место? Не осквернят ли там эти образы? Я не знаю. Сделал, потому что так было нужно. Разрешения ни у кого не спрашивал.
 Александр Цыпков. Богородица. 2021. Москва© «После иконы»
Александр Цыпков. Богородица. 2021. Москва© «После иконы»Продолжая тему отношений с какими бы то ни было институциями — проект «После иконы» создавался и финансировался несколькими идейными людьми и поэтому может быть по-настоящему независимым. Время от времени нам помогают бескорыстно люди, которые считают, что то, что мы делаем, правильно и важно. Фамилии перечислять не буду. Спасибо им.
А вообще могу сказать, что в России сегодня не существует хоть сколько-нибудь осознанной культурной повестки у Церкви (да и у государства тоже). Деньги выделяются под конкретных людей, кому доверяют. А вот взять и начать продуманно и последовательно продвигать нормальные культурные ценности, поддерживать конкретные инициативы у нас никто не может. Или не хочет. Культурная повестка сейчас на 90% в руках людей, которые начиная с 70-х государство и народ ненавидят, боятся, презирают. Но это, конечно, отдельный разговор, а если конкретно, то вот, смотрите: в нашем Отечестве с 1991 года и до настоящего момента у Церкви нет ни одного собственного выставочного зала, ни одного выставочного проекта, ни одного научно-исследовательского института, ни одной археологической экспедиции, ни одной грантовой программы поддержки современных культурных инициатив; про отношения с музеями я уже и не говорю.
 Александр Цыпков. Ангел. 2021. Москва© «После иконы»
Александр Цыпков. Ангел. 2021. Москва© «После иконы»— Видимо, Софрино — это ответ на все запросы.
— Я молчу про Софрино, это храмовый дизайн. Есть и есть. Я о другом. Понимаете, у нас ведь как все происходит обычно? Выставка икон — и рядом мед, шубы, рыба соленая, платочки, золотое шитье, матрешки, балалайки. Если вы так относитесь к литургическим предметам, это ваше право. Я не могу запретить это, но я могу отойти в сторону и делать то, что считаю нужным. У вас храмы в золоте, у меня руины в холоде. Мне как художнику и куратору в последнее время неинтересно работать с традиционной музейной и галерейной средой, поэтому в последнее время мы делаем выставки в тех местах, в тех пространствах, которые чем-то уникальны. Как сейчас в Зарядье, где выставочное пространство располагается вокруг сохранившегося фрагмента белокаменной Китайгородской стены. Это уникальное место и уникальная ситуация. Предельная вещественность древней каменной кладки — и рядом что-то цифровое, видеоарт, NFT… Классический музей мертв. Этакая гробница для искусства. Другое дело — природная местность. У меня есть дом в заброшенной деревне в Тверской области. Я там в округе делаю некоторые свои проекты. Там руины, леса, река течет. Первые мои христианские переживания связаны именно с руинами в этой несчастной обезлюдевшей тверской глубинке. Помню еще руины церкви Иакова Апостола на Курской (я вырос в том районе). Там была овощная база, я пацаном лазил там, стирал земляную пыль с фресок, где мог достать. Все это казалось таинственным и недостижимым, утраченным навсегда и тем не менее очень важным.
 Александр Цыпков. Спаситель. 2021. Москва© «После иконы»
Александр Цыпков. Спаситель. 2021. Москва© «После иконы»— Значит, теперь следует ждать выставку «После иконы» в каком-то совершенно неожиданном месте?
— Мечту осуществить легко. Достаточно сильно хотеть и быть готовым к труду. Но я считаю, что человек должен однажды попытаться сделать что-то, о чем он даже и не мечтает. Нет смысла ждать. Сложится — будет. Образ — он как настырный одуванчик. Пробивает асфальт, потому что ему надо. И пока ему надо, он будет пробивать. Его же не спрашивают, где ему расти — в клумбе или на асфальте. Так выходит, что один в клумбе оказался, а другой на асфальте. Один портит асфальт, а другой забивает садовые цветы. Так и с образами. Смотришь и видишь: вот здесь образ должен быть, потому что такова архитектура мироздания. Как в готическом соборе: половины скульптур не видно, когда смотришь снизу, но знаешь, что они там есть, потому что так должно быть. А увидит кто-то или не увидит — да какая разница? Это вообще неважно. Такая вот средневековая логика.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Рождественская выставка проекта «После иконы» в Подземном музее Зарядья продлится до 23 января. С другими выставками проекта «После иконы» можно ознакомиться в Инстаграме: @after_icon_project.
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202239015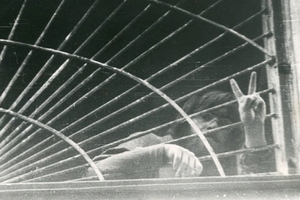 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202255264 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202235900 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 202282991 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202249397 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202236674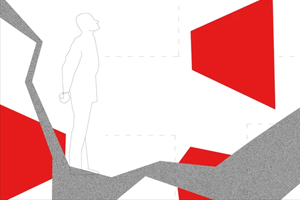 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали