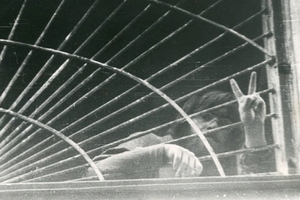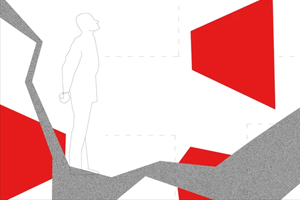Санкт-Петербург, 2017 год© Наталья Серикова
Санкт-Петербург, 2017 год© Наталья СериковаМы не были с Сашей близкими друзьями; я был и остаюсь другом Глеба, с которым они в какой-то момент образовали свой критический тандем — союз, поражавший своей крепостью, если учесть, что нелегкий характер Саши стал притчей во языцех. Саша легко умела подрезать человека так, что он мгновенно терял чувство превосходства и излишнюю самоуверенность. Часто с этого начинались отношения с Сашей — такое не может не взволновать. Я, как и почти все, ее немного побаивался и держал дистанцию, которую в то же время по разным поводам жаждал сократить. Она была субъектом, предположительно знающим — знающим больше, чем ты хочешь показать, — как потом выяснилось, для многих. Но за все время нашего общения Саша не сказала мне ни одного обидного или жесткого слова — казалось, берегла. Сейчас я об этом ужасно жалею: для нее это было одним из способов войти в настоящие, а не поверхностные, светские отношения. Одна вещь поразила меня во время нашей последней встречи — Саша в шутку говорила: «Всем кажется — я властная, меня боятся. Но странно, что никто не понимает: на самом деле я хочу подчиняться».
Коллективную единицу Саши с Глебом Напреенко я в шутку называл «Напряженовы». Это имело отношение к их психологическим портретам, но больше, конечно, к тому напряжению, что вызывали их тексты — и что порождало их. Саша была много кем, и даже поразительно, как столь разные ипостаси могут уживаться в одном человеке: блестящий, не лезущий за словом в карман журналист, обстоятельный историк искусства, преподаватель (который был важной фигурой, по-моему, для всех своих студентов в школе Родченко — во всяком случае, для всех, с кем я разговаривал), политический активист, страстный любитель баскетбола, художник и дизайнер, независимый куратор странных мероприятий вроде «Опухшего глаза», модник (Саша признавалась, что ее любимый способ прокрастинации — скроллинг модных блогов), исследователь психоанализа, композитор и исполнитель, наконец (Саша написала несколько пьес для Скрэтч-оркестра). Но по призванию и своей онтологии Саша всегда была критиком — для нее не было застывших формул и раз и навсегда определенных отношений. Все, что становилось предметом ее интереса, ставилось под вопрос. Она всегда находила необычный и очень личный ракурс, не вынося свою позицию за скобки. Во всем, что оказывалось под ее взглядом, ее интересовали место желания и вписанность рассматриваемого в систему политических и экономических связей. Особенно увлекательно было следить за тем, как в ее штудиях тело включалось в процессы производства субъектности — даже в коротких заметках. До сих пор невероятно остроумными мне кажутся ее тексты о конструировании классовой идентичности машиной парка Горького или, например, о LavkaLavka и еде как идеологическом медиа.

Ее мысли — неважно, о политике ли, об искусстве, о кино или о театре — приводили к нетривиальным выводам. Ее интересовало сложное и парадоксальное — и в культуре, и в людях, и в их взаимодействии. Саша была непредсказуема и свободна. Она была очень живая, и жизнь для нее была непрекращающимся напряжением интеллекта и чувств. Она не тешила себя простыми иллюзиями. Учеба в Чикаго, американская академия были для нее возможностью выйти на новый интеллектуальный уровень, которого ей недоставало здесь. Но в то же время она была очень критично настроена по отношению к устройству академии, к экономической и культурной сегрегации американского общества. Помню, во время ее академических каникул, когда она гостила у нас в Санкт-Петербурге, Саша с улыбкой делилась ощущением, что в университетах люди получают благословение на то, чтобы защищать исследования на тему собственных неврозов. Про нее такое нельзя было сказать.
Для меня и для многих из нас Саша была очень важным ориентиром — только постфактум понимаешь, насколько важным. С ее уходом мы все очень сильно потеряли. Остается только перечитывать ее тексты, вспоминать, задаваться вопросом — как бы Саша к этому отнеслась? Ответов нет, но есть та высокая планка, то внутреннее напряжение, что не хотелось бы потерять.

 Радиотелескоп для работы с Непредставимым
Радиотелескоп для работы с Непредставимым Художники против Екатеринбургского цирка
Художники против Екатеринбургского цирка Танцхудожники за справедливую оплату труда. Открытое письмо
Танцхудожники за справедливую оплату труда. Открытое письмо Как сделать лесную выставку в поле
Как сделать лесную выставку в поле Минус-прием Игоря Чацкина
Минус-прием Игоря Чацкина Русская как иностранная
Русская как иностранная В Томске потребовали закрыть «арс котельную»
В Томске потребовали закрыть «арс котельную» Позвольте, что это за «яба» такая?
Позвольте, что это за «яба» такая? Вторая триеннале музея «Гараж». Послесловие
Вторая триеннале музея «Гараж». Послесловие Музей Stedelijk против генпрокурора
Музей Stedelijk против генпрокурора «В советское время сюда попадали люди, которым не нашлось места в системе»
«В советское время сюда попадали люди, которым не нашлось места в системе» Открытое письмо международного арт-сообщества против ареста Надежды Саяпиной
Открытое письмо международного арт-сообщества против ареста Надежды Саяпиной